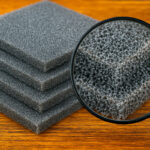О том, где искать основу наших будущих побед, как россияне «подсели» на иглу сенсаций и чем сегодняшняя вседозволенность отличается от хаоса девяностых годов прошлого века, рассуждает политолог и писатель Денис Драгунский.
— Денис Викторович, с чем у вас ассоциируются девяностые?
Прежде всего — со свободой. Самый прекрасный день в моей жизни — это когда русский флаг вместо советского был поднят над Белым домом и Кремлем. Помню, это было 21 августа, было светло, было солнце, все шли на улицу. Я не был среди защитников Белого дома, так получилось. Но потом, помню, я все время ходил смотреть на этот флаг. Видел, как над Кремлем флаг поднимают, и это был большой праздник, потому что я с детства очень любил это все дело — трехцветный флаг, двуглавых орлов и старую орфографию. Не знаю, почему.
Нашей семье было жить трудно в девяностые годы. Иногда не хватало на еду. Но, тем не менее, мы чувствовали себя какими-то замечательно освобожденными. Я был просто журналистом, моя жена была просто научным сотрудником медицинского научного центра, дочке было 10 лет, — и вот мы все очень радовались тому, что можно купить любую книжку, можно прочитать что угодно, можно говорить что угодно, можно выйти на митинг, можно что-то сказать. Была свобода. И даже к тому, что на многие вещи не хватало денег, мы тоже относились вполне разумно, потому что я же понимал, что в какой-нибудь процветающей европейской стране магазины полны всякими вкусными вещами, но не каждый идущий по улице парижанин, лондонец или берлинец может зайти в магазин и набить себе две кошелки чем он хочет. Всегда нужно по одежке протягивать ножки. Хочешь работать — зарабатывай. Мы искали способ заработка, бизнесом мы не занимались, а занимались исключительно заработком в рамках своих возможностей — как наемные работники. И ничего.
Конечно, я прекрасно помню, что взлет преступности в девяностые годы действительно был. Вся эта преступность, жестокость, хамство, красные пиджаки, новые русские из анекдотов. Но при этом все-таки было интересно жить.
Где-то в двухтысячном году я купил книжку о сопротивлении советской власти в послевоенные годы. Выяснилось, что после войны было то ли пятьсот, то ли тысяча, а может быть и больше, случаев кровопролития, бунтов, нападений, разгромов милиции, нападений на представителей власти, забастовок, перекрытий дорог, потому что голод же был жуткий. Да и народ, пришедший с войны, был достаточно крепкий. Но это все подавлялось. А, простите меня, во времена террора 1937-38 годов, мы же знаем, что, по самым скромным, подтвержденным КГБ подсчетам, было казнено и расстреляно восемьсот тысяч человек с лишним! То есть примерно тысяча человек в день! Все-таки, согласитесь, в девяностые годы не было тысячи убийств в день. Было, условно говоря, два. «Бытовуха» — это примерно десять тысяч в год. Но не четыреста же тысяч!
Наше отношение очень зависит от информации об этом. Вообще все зависит от информации. Мы знаем, что при Сталине был порядок, при Брежневе — застой, при Хрущеве — кукуруза, а девяностые были «лихие» — красные пиджаки, убийства — и говорим такими штампами. Если возвращаться к сегодняшнему дню, я бы остерегся говорить о возврате девяностых, потому что жизнь сейчас у нас все-таки совершенно другая, люди другие. В девяностые годы бывшие советские люди выскочили из социализма и поэтому, так сказать, бушевали. Сейчас уже прошло все-таки двадцать пять лет. Это как раз одно поколение. Сейчас главными действующими лицами стали те люди, которые Советского Союза уже не застали, а если и застали, то чисто формально. Как мой отец родился в Америке, а через полгода его привезли в Россию обратно. Родился в декабре 1913 в Нью-Йорке, а в июне 1914 он уже был в Гомеле. Можно сказать, что он жил в Америке? Ну да, можно. Можно сказать, что он набрался американского духа? Думаю, что все-таки нет (смеется). Так и здесь.
Сейчас, может быть, какой-то другой кризис. Некоторый кризис СМИ, потому что большинство средств массовой информации как-то «село» на иглу сенсаций, эмоций и «сажает» на эту иглу людей. Поэтому все эти истории со взорванной медведицей — это типично, чтобы кликнули. Я ни за что не поверю, что не убивали животных во все времена. Моя жена — профессор Ольга Буторина — сказала замечательную фразу: «У нас сейчас общество клика». Главное, чтобы кликнули. Соответственно, главное желание СМИ — привлечь внимание любой ценой.
— Но все-таки в последнее время СМИ пишут и о более серьезных трагедиях: недавнее убийство в центре Москвы, случай в Красногорске, где убили заместителя мэра, убийство Бориса Немцова. Не наводили ли вас эти события на мысли о девяностых?
Нет. Это уже современная специфика. Конечно, вполне возможно, что нашлись какие-то люди, которые решили устранить свои бизнес-проблемы таким образом, но в общем и целом это не характерно для сегодняшнего времени. Сейчас у нас государство стало скорее государством тяжелых, сложных, кудреватых, неудобных законов. И всегда можно человека разорить с помощью адвокатов. Сейчас все-таки не эпоха киллеров и рейдеров.
Когда была эпоха киллеров — людей просто убивали. Потом следующая эпоха рейдерского захвата. Человека не убивали, а просто крали печать, выгоняли из помещения. А сейчас настала эпоха адвокатов и нотариусов. Поэтому это не связано с девяностыми. В девяностых когда права, писаного закона, и судебной практики не было, единственным способом захватить какое-нибудь здание было убийство его хозяев, чтобы въехать в ничейную собственность. Конечно, может быть, существуют такие ситуации, когда люди не могут разобраться с нотариусом и хватаются за пистолет. Но все-таки для нашей эпохи убийства — как способы решения хозяйственных и политических проблем — не характерны.
Политических убийств в девяностые годы было значительно больше, чем сейчас. Во время чеченской кампании генералов похищали и убивали, а уж сколько депутатов полегло, мэров городов… Сейчас это все-таки стало исключением. Но очевидно вот что. В девяностые годы убийство политическое или бизнес-убийство как бы (в тройных кавычках) диктовалось «необходимостью». То есть человек понимал, что у него есть какой-то политический соперник, который его уничтожит, если этот не уничтожит его. У человека есть бизнес, ему хочется расширяться, и никаких законных способов договориться с другим человеком у него нет. Осуществить какое-то конкурентное действо — нет. Поэтому это «как-то по необходимости». При этом если я говорю слово «необходимость», это не значит, что я как-то оправдываю этих людей.
А сейчас, мне кажется, другое. Сейчас — по какой-то распущенности, какому-то ощущению вседозволенности. Если можно так выразиться, по невоспитанности хватаются за оружие. Потому что раньше, может быть, от советской поры в девяностые годы пришло какое-то такое воровское тюремно-лагерное правило: без толку ножами не махать. Если ты кого-то собрался убивать, у тебя должны быть очень веские причины. Сейчас очень много такой стрельбы, которая была для девяностых, на мой взгляд, нехарактерна. В пробке, в ДТП, поссорились на бензоколонке, кто-то чью-то задел машину, выхватил травматический пистолет и открыл огонь, в результате чего убил. Это какое-то озлобление, дикое эмоциональное напряжение, помноженное на некую внутреннюю невоспитанность.
— Дмитрий Быков недавно написал: «Девяностые были проклятыми, кто спорит, но они были лучше. И не потому, что была надежда, а потому, что население еще по советской памяти отделяло черное от белого и верило, что может жить иначе». Согласны?
— В этих словах есть определенная доля истины, потому что бывшие советские люди действительно знали край. Они, может быть, даже его не соблюдали, но они точно знали, что вот это — хорошо, а это — нехорошо. Граница между «можно» и «нельзя», между «добром» и «злом» в голове существовала. Да, она нарушалась, но она существовала. Сейчас — в этом смысле Быков прав — этой границы как бы нет. Очень большой моральный релятивизм. Все можно. Детей воспитывают тоже на таком уровне — все можно. Но сказать, что все ужасно и плохо, тоже нельзя. Много хамства, но при этом, например, скажем, в метро все чаще я вижу, как уступают места женщинам, пожилым людям. Причем часто очень это делают люди, которых ругают, — выходцы из Кавказа и Центральной Азии. Но у них, может, традиция своя. А вот абсолютно прекрасным примером того, что абсолютно все можно воспитать, является поведение водителей на «зебре». Уступают пешеходам, всегда и всюду. Это стало абсолютно естественно. Причем еще в 2000 или 2005 году ничего подобного не было.
— Вот вы говорите о том, что сейчас преступления происходят от вседозволенности. При этом многие уверены, что вседозволенность была именно тогда, в девяностые.
— Тогда не было вседозволенности. Тогда был просто хаос. Вседозволенность — это же внутреннее состояние людей. Люди, которые совершали преступления тогда, в девяностые годы, жестокие преступления, насколько мне известно, прекрасно знали, что они совершают преступление. Они себя оправдывали, опять же в кавычках, «интересами дела». Кто-то говорил, что это ради детей, чтобы его дети, внуки были богатые; кто-то говорил, что его достали; кто-то говорил, что это плохой человек, вор, а я убиваю его как Робин Гуд. Не знаю. В любом случае человек знал, что он совершает преступление. А сейчас они как наркоманы. «А че? А че такого? Ну, подумаешь, ну, убил. Ну, опрокинул, разбил». На мой взгляд, так.
— Для вас девяностые были тяжелы. При этом вы как-то сказали, что тогда было «время какого-то душевного и интеллектуального взлета, раскрепощения, свободы». Можно сказать, что сейчас — учитывая последние новости о росте бедности населения — присутствует тяжесть, но без раскрепощения и свободы?
— К сожалению, да. Некая экономическая тяжесть, безусловно, существует, но люди как следует экономическую тяжесть еще не вкусили, мне кажется. Потому что еще далеко до пустых прилавков, или до дефицита, или до безумной дороговизны. Конечно, все может измениться за три месяца, но пока далеко. Но, к сожалению, вот этой раскрепощенности, нету, это верно. Этого ощущения свободы, ощущения каких-то моральных побед. Почему? Можно об этом долго думать. Просто понятно, что его нету.
— Недавно была громкая история вокруг программы Никиты Михалкова на «России-24». В ответ на претензии Михалкова на канале заявили: «По опыту 1990-х российское телевидение знает, как возникают и к чему приводят «эфирные войны»». Как вы считаете, сейчас действительно возможны «эфирные войны»?
— Конечно нет, это просто пустые слова. Информационные войны возможны в том случае, когда сосуществуют, как когда-то, Первый канал и НТВ Гусинского. Когда они сопоставимы по мощи, по охвату. Когда, условно говоря, Россия воюет с Германией — это война. А когда Россия воюет с Сан-Марино — это не война.
Михалков, на мой взгляд, просто зашел за грань того допустимого, которое себе поставили даже самые официозные каналы. Это мне напоминает историю с советским писателем Всеволодом Кочетовым, который написал знаменитый свой роман «Чего же ты хочешь?». Такой советский-советский, коммунистический-коммунистический. И там он измазал грязью огромное количество советских писателей, выведя их под очень легко читаемыми псевдонимами, говоря, что кто-то — русский националист, что тогда считалось очень плохо, кто-то — преклоняется перед Западом, что тоже никуда не годилось, кто-то просто безыдейный алкоголик, что еще хуже. И этот роман очень сильно критиковали в ЦК КПСС, были очень серьезные разборки, разгромные статьи в центральных газетах. Его даже не выпустили отдельным изданием, хотя Кочетов был главный редактор толстого литературного журнала «Октябрь». Почему? Потому что ему объяснили: «Переборщил, пересолил, бьешь по своим. Решил поссорить интеллигенцию и народ».
— Если продолжить тему телевизора, то на фоне постоянного освещения событий в Сирии и Украине, нескончаемой картинки с убийствами и бомбежками, может как-то смазаться та «страшилка» про «лихие девяностые»?
— Может. Любая страшилка убедительна, если ее умело смастерить. Представим себе девяностые в восприятии простого телезрителя, который тогда жил, но не очень разбирался в ситуации. Что он чувствует? Девяностые — это голодновато, это разрушение державы, империи, это огромное количество какой-то непонятной информации в голове свистит. Ну, и плюс еще разгул преступности. И потихонечку получается, что этим людям кажется — девяностые потихоньку возвращаются.
Экономический кризис: людям без разницы, отчего у них не хватает денег: оттого, что злой Гайдар отнял у них сбережения все или оттого, что американцы санкции навели. Жрать-то все равно нечего, какая разница. Преступность какая-то гуляет. Опять же уход Украины воспринимается как продолжение распада СССР. Ведь на самом-то деле для большинства людей бессознательно уход Украины — это и есть тот самый распад России. Потому что люди совершенно не представляли себе, что есть другое государство, где тоже говорят по-русски, и у него есть граница с Брянской, Воронежской, Ростовской областями.
Для русского самосознания другая страна начинается на станции Чоп. Где Польша, Чехия, Румыния, Венгрия, — это уже другие страны. А это все пока как бы наше. И возникает ощущение какого-то неуюта в сознании. Конечно, картинка с Сирией и Украиной нужна для того, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем. Хотя, если говорить честно, то в состязании холодильника и телевизора побеждает телевизор всегда — со счетом 15-1.
— Светлана Алексиевич в своей нобелевской лекции сказала: «Красный» человек так и не смог войти в то царство свободы, о которой мечтал на кухне. Россию разделили без него, он остался ни с чем. Униженный и обворованный. Агрессивный и опасный. Как вам кажется, этот человек, в борьбе за которого телевизор побеждает у холодильника, может как-то выйти на улицу и как-то выплеснуть эту агрессию?
Конечно, может. Агрессия может и в плохое, и в хорошее воплотиться. Но я думаю, что сама по себе она в плохое не воплотится. Я все-таки верю в доброту русского народа, и без того, чтобы его сильно вели, подзуживали, подначивали, вряд ли это может вылиться само. Мне так хочется верить. Тут достаточно спичку кинуть, сказать: «Во всем виноваты лавочники», — и пойдут громить магазины. Но это не нужно власти совершенно, потому что все эти вещи имеют свойство непредсказуемо разворачиваться. Как лесной пожар. Нельзя сказать, что вот сейчас засуха, а мы выжжем эти два дерева, а остальные трогать не будем. Все загорится. Государство, если оно сохранит какую-то здравость, будет подавлять агрессивные импульсы людей, чтобы они так и оставались между человеком и телевизором.
— Летом в Москве с огромным успехом прошел фестиваль «Остров 90-х», собственно об этом времени. Причем успехом этот фестиваль пользовался именно у молодых людей, которые в девяностые были совсем еще детьми. Тогда разгорелась жесткая полемика насчет того, какие девяностые — хорошие или плохие. Это было выплеском пара?
— Было, но для очень маленького количества людей. Для многомиллионной страны, для многомиллионного города этого мало. У нас же одна Москва размером с европейскую страну. Это чистые копейки. Выпуск пара для этих людей, которые пришли, но никак не в национальном масштабе.
— А такие вещи, как «Ельцин-центр», могут как-то поменять дискурс?
— Это все происходит постепенно. Ведь, на самом деле, поменять дискурс можно тогда, когда много народу смотрит. Вот если бы о «Ельцин-центре» было три-четыре передачи, где какие-нибудь телеведущие, вроде Парфенова, стали рассказывать про девяностые с симпатией, тогда, может быть, через какое-то время… С другой стороны, легко можно девяностые назвать славными, если бы государство этого захотело. Я не думаю, что народ очень сильно сопротивлялся бы. Ну посопротивляется, конечно, сначала, а потом успокоится.
Ведь очень странно, когда наше государство, наши информационные, идеологические власти говорят о проклятых девяностых. Это немножечко рубить сук, на котором сидишь, потому что все эти люди тогда начинали свою политическую карьеру. А кроме того, представим себе, что Сталин говорил о «проклятых двадцатых». Это же была бы какая-то чушь полная, потому что вся советская власть выросла из двадцатых!
Двадцатые годы были страшные: голод и гражданская война. Меж тем, была огромная романтизация этого периода. Она дожила даже до наших дней — Окуджава писал: «комиссары в пыльных шлемах…». Что-то такое замечательное. Слова «гражданская война» произносились не с омерзением и ужасом, как надо было бы на самом деле, а «романтика эпохи гражданской войны». Словарная суть этого слова абсолютно пропала. Что-то такое красивое: цокают кони, буденовки, все молодые, худые, с большими глазами, втянутыми щеками, что-то строят. И ровно то же самое надо было говорить про девяностые. «Да, мы прошли этот период тяжелый, романтичный, но мы научились свободе, научились тому-то», — можно было так. Но, очевидно, у кого-то по-другому мозги сработали, поэтому мы сейчас говорим о «возвращении девяностых».
— То есть это упущение тех, кто придумывает смыслы?
— Совершенно верно.
— Вы как раз заговорили о власти. Вот недавно ее представитель, председатель Госсовета Крыма, сказал, что можно поднять экономику в республике, используя опыт девяностых годов. Это было достаточно широко растиражировано во всех СМИ. Почему, как вам кажется?
— Потому что это действительно единственный выход! Что Путин сказал? «Как мы можем ответить на санкции, экономические трудности? Увеличением свободы предпринимателей». Я не знаю, что там в результате будет, но само по себе это заявление очень показательно. Другое дело, что все-таки нужно государственное руководство, какая-то сознательность людей. Всегда должен присутствовать государственный регулятор, потому что, скажем, есть завод, который работает еле-еле, почти в убыток. А я хозяин завода и я думаю: «Господи, лучше я сейчас всех людей уволю, станки — на металлолом, а здание — на торговый центр. Я получу сразу много миллионов долларов и уеду куда-нибудь во Францию жить». И вот тут регулятор должен сказать: «Нет, парень. Так делать нельзя. Завод должен быть. Не хочешь его развивать, давай мы у тебя его купим — но по нормальной цене, чтобы ты не очень баловался».
В девяностые годы люди, несмотря ни на что, продолжали работать — была какая-то советская инерция, какой-то производственный энтузиазм. Под конец девяностых он, правда, выветрился. А сейчас главное — это развлекательно-потребительский энтузиазм. Я сильно надеюсь, что наша сильно ухудшившаяся экономическая ситуация действительно позволит начать развивать производство. Как ты не становись на голову, ничего не получится без производства. Как только появится промышленность — сразу появится школа, дети начнут учить математику, чтобы работать инженерами. Появятся вдумчивые студенты, а не те раздолбаи, которые учатся для того, чтобы получить корочку, а потом пойти в офис и ничего там не делать.
— Вы в девяностые годы к нехватке еды и средств к существованию относились «разумно». Сейчас, кажется, у простого человека тоже есть понимание ситуации: нужно потерпеть, импортозамещение не сразу заработает. То понимание и это понимание чем-то различаются?
— Думаю, нет. И тогда это понимание касалось далеко не всех. Были люди, которые сказали: «Мне наплевать на ваши верхушечные игры, распад СССР, демократию вместо власти КПСС, я работал на заводе и продолжаю работать. Почему мне не платят деньги?» Или: «Мои деды, отцы, и я сам всю жизнь работали, с трудом накопили десять тысяч на сберкнижку. И вдруг инфляция и на эти деньги можно купить бутылку водки. Это преступление! Нас ограбили!» И человеку не объяснишь, что молчаливыми соучастниками этого преступления были все его предки, которые в 1956 году не могли пойти на выборы и сказать: «Когда один кандидат — это не выборы, идите вы на три буквы». Но этих людей ни в коем случае нельзя винить, потому что простой человек живет так, как ему велят. Высокой политической сознательности требовать от простого человека бессовестно, нельзя так делать.
Сейчас ситуация немножко поменялась, очень интересно. В девяностые годы примерно 20% людей понимали, что голод и неустройство — это плата за прогресс, за то, что мы движемся вперед, к современному, развитому государству, с новыми производствами, с новой идеологией, с новым отношением с соседями, с новой культурой, а 80% говорили: «Мы работали — нам кукиш показали. Проклятые девяностые!».
Сейчас же 80% по накатанной стезе готовы списать все трудности и неудобства на козни внешнего окружения (это вообще очень свойственно российскому политическому сознанию еще со времен Ивана Грозного) и говорят: «Да, нас хотят задавить, но мы ничего, мы потерпим». А 20% говорят: «Погодите, а для чего мы вообще затеяли все это с Украиной, Сирией? Сидели бы спокойно, развивали бы свою промышленность конкурентоспособную и было бы все нормально, и не надо было бы ничего импортозамещать. Работать, потихонечку уменьшая долю экспорта энергоносителей, увеличивая долю экспорта высокотехнологической продукции, и шаг за шагом, к 2050 году, мы станем не столько экспортировать сырье, но и высокие технологии, почему нет. А вместо этого вдруг устроили такой тарарам на весь мир, в результате чего инфляция, санкции». Но так говорит только 20%, и те 80% считают эти 20% какими-то национал-предателями.
Потому что очень трудно человеку понять, что он сам виноват. Так же, как и 20%, которые в девяностые годы понимали, что происходит, и говорили, что это мы готовы платить по этим счетам, потому что мы в каком-то смысле сами виноваты. Потому что батон хлеба не может стоить 13 копеек. Так не бывает. Нельзя жить так, чтобы две найденные на улице пустые бутылки принесли тебе 24 копейки, за которые ты мог купить буханку хлеба и пакет молока и прожить день. Это разврат. Если мы с этим были молчаливо согласны, то теперь мы платим за то, что жили в молчаливом согласии с этим. Одни говорят: виноват кто-то — Гайдар, Чубайс, Ельцин, Обама, кто-то еще, — а сказать. что это наши проблемы, может только меньшая часть населения.
— В начале беседы вы сказали, что «лихие девяностые» — это такой штамп, даже не совсем уместный. А как можно по-другому охарактеризовать тот период?
— Можно сказать «революционные девяностые». У нас, правда, сейчас говорят, что наши власти не очень любят слово «революция». Хорошо: «Трудная эпоха реформ». И время трудное, но и реформы. А реформы — это все-таки хорошо.
— А как можно назвать десятые годы? Как в будущем их назовут?
— Эпоха, когда реформы стали приносить плоды. Эпоха результатов реформ. 2015 год — год кризиса. Что ж, потом посмотрим, как из него выруливали. Потому что, действительно, все это повышение жизненного уровня в двухтысячные — разумеется, результат реформ девяностых. Это не с потолка свалилось, это вам скажет любой студент-экономист.
Денис Гольдман
Источник: rosbalt.ru