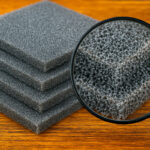Чем потрясения 80-х, 90-х и «нулевых» отличаются от сегодняшнего дня
Россию пугают призраком дефолта. Чтобы не повторить кризис 1998 года, необходимо резать расходы бюджета, иначе «околонулевое» состояние российской экономики может длиться десятилетиями. Об этом на Гайдаровском форуме заявили глава правительства Дмитрий Медведев и министры финансово-экономического блока.
В 1998 году, напомнил министр финансов Антон Силуанов, бюджет через высокую инфляцию автоматически подстроился под новые макроэкономические условия, и сократился по отношению к ВВП на 10 процентных пунктов. «Но это было сделано стихийно, через рост инфляции, через сокращение в реальном выражении всех расходов. Можем ли мы себе такое сейчас позволить? Конечно, это неправильно. Это самый худший вариант развития», — отметил Силуанов.
Но так ли страшен был 1998-й, почему именно из него сделали фетиш либералы, которые определяют сегодня экономическую политику России?
Специально для «Свободной прессы» на эти вопросы попытался ответить кандидат исторических наук, доцент Факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.
— Знаменитый кризис 1998 года, прежде всего, представлял собой объявление дефолта по внутреннему долгу — так называемых государственных краткосрочных облигаций (ГКО), — который повлек банкротство целой серии крупных банков. Это привело к спаду экономики. Во втором полугодии 1998-го объем промышленной продукции в России сократился на 2,5%, а продукции сельского хозяйства — на 3%. Кроме того, по официальным данным, реальные доходы населения за месяц (в сентябре, по сравнению с августом) сократились на 31,1%.
Но есть несколько моментов, которые доказывают: кризис 1998-го был не так уж страшен для большинства населения России, и затронул лишь мегаполисы — Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Именно по крупнейшим городам кризис нанес сильный удар, и так произошло по трем причинам.
Прежде всего, именно в этих трех городах у населения имелись относительно крупные (на тот момент) банковские вклады. Население в них было в большей степени связано с внешней торговлей. Наконец, здесь имелся сегмент бизнеса, завязанный на финансовый сектор.
А вот для российской глубинки 1998 год остался в памяти, как самый нестрашный кризис из череды потрясений, какие выпали на долю нашей страны в 1990-е.
«СП»: — Какие потрясения вы имеете в виду?
— Одним из самых болезненных кризисов был крах потребительского рынка во второй половине 1980-х. В 1989—1991 годы случился первый шок, связанный с установлением тотального дефицита на товары первой необходимости.
Экономисты до сих спорят, что стало его причиной: просчеты «стратегии ускорения» правительства Н.И. Рыжкова (основные средства были в 1985−86 гг. потрачены на машиностроение без учета интересов легкой промышленности) или «война законов», развернувшаяся между союзным центром и республиками. Так или иначе, страна с начала 1987 года столкнулась с резким сокращением товарного ассортимента: «нормальной» картинкой, например, стал обувной отдел, в котором на полке находятся одна-две пары обуви.
К 1990 году ситуация усугубилась талонной системой, распространявшейся на продукты первой необходимости — от сахара до мыла, не говоры уже о такой «роскоши», как стиральный порошок. Гражданам приходилось ездить в Москву и Ленинград для покупки самого необходимого. Антиалкогольная компания и «табачный кризис» привели к усилению теневого рынка.
Достаточно вспомнить километровые очереди, чтобы понять, каким был реальный кризис конца 1980-х. На это наложилась еще и «павловская» реформа 1991 года (конфискационная реформа министра финансов Валентина Павлова, который намеревался стабилизировать денежное обращение в СССР), которая «съела» вклады значительной части населения.
Вторым серьезным шоком стала депрессия 1992−1994 годов. Она была связана с закрытием основной массы заводов и предприятий, прежде всего, военно-промышленного комплекса. Вот только некоторые цифры. ВВП в 1994-м, по сравнению с 1991-м, снизился на 40%, объем производства промышленной продукции — на 44%. В ряде отраслей спад составил от 35 до 65%.
Людям приходилось искать работу в новых сферах. Это была либо «челночная» торговля, либо открытие небольшого собственного дела, как правило, связанного с теневым сектором экономики. Многие пытались найти место в полукриминальных структурах. Отчасти выручала связь с деревней: у многих городских жителей еще была возможность получать продукты от родственников из села, что облегчало их положение. Но именно в 1992—1994 годы у очень многих россиян выпадали длительные периоды безденежья.
Наконец, третий, не менее серьезный кризис, случился в 1996—1997 годы. Это был кризис массовых невыплат заработной платы. По данным Госкомстата, общая задолженность по зарплате на начало 1997 года составила примерно 50 трлн рублей. В этих условиях большая часть населения была элементарно лишена возможности иметь хотя бы какие-то вклады в банках.
Кстати, во многом из-за этого обстоятельства кризис 1998 года эту большую часть населения мало затронул — у людей просто отсутствовали крупные накопления. Напротив, кое у кого в глубинке кризис-1998 вызвал волну злорадства: мол, наконец, накрыло «заевшуюся Москву».
«СП»: — Какое место занимает нынешний кризис в координатах кризисов 1990-х?
— На фоне шоков конца 1980-х и 1990-х он пока выглядит простым чихом, хотя и неприятным. Судите сами: в 1989-м мы искали, где купить мыло и спички. В 1994-м стоял вопрос, как заработать в период закрытия предприятий, и обеспечить минимальное выживание. А в 1996-м мы спрашивали, как добиться выплаты зарплаты. Вот это — реальные экономические трудности.
Сегодня мы спорим, сколько потеряет Россия от санкций — 0,5 или 2% ВВП. Разве это хотя бы отдаленно сопоставимо с падением ВВП в 1990−94 годах?
«СП»: — Значит ли это, что и нынешний кризис глубинка не заметит?
— Думаю, заметит, но мало — как и кризис 2008—2009 годов. Для основной массы населения, на фоне потрясений горбачевских и ельцинских лет, кризисы 1998-го и 2008-го проходили, скорее, как абстрактная картинка по телевизору. Другое дело, что нынешние экономические трудности могут привести к определенным долгосрочным последствиям.
«СП»: — Почему же на Гайдаровском форуме кризис 1998 года так серьезно обсуждался?
— Нравится нам или нет, но 1998 год стал окончанием экономической парадигмы, которая была выбрана при Егоре Гайдаре. От этой парадигмы тогда не полностью отказались, многие ее компоненты были живы, как минимум, до 2005 года, а некоторые уцелели до сих пор. Тем не менее, в чистом виде гайдаровской парадигмы не существует именно с 1998-го.
Напомню, что в новейшей истории России было два либеральных правительства. Первое пришло в начале 1992 году — Ельцин лично «взял под крыло» правительство Е.Т. Гайдара. Это правительство не продержалось и года, после чего его заменили на более компромиссное правительство Виктора Черномырдина. Вопреки расхожим представлениям, либералы не считали правительство В.С. Черномырдина либеральным, особенно после усиления в нем «группы Олега Сосковца» осенью 1994 года. Второе «чисто либеральное» правительство образовалось в марте 1997 году, с приходом в кабмин Анатолия Чубайса, Бориса Немцова и целой команды младореформаторов, — и оно продержалось до середины 1998-го.
Как я понимаю, одна из задач Гайдаровского форума — понять, почему же две попытки проведения либеральных реформ в России оказались неудачными. Есть еще момент. Либералы пугают нас призраком 1998 года, чтобы их вернули в систему государственного управления. Мол, не позовете нас — будет новый 1998-й.
Но заметьте — речь не идет о новом 1989-м, или новом 1994-м. И понятно, почему: для либералов гораздо страшнее «игрушечный» кризис 1998 года, чем реальные потрясения, которые страна пережила ранее.
«СП»: — На ваш взгляд, почему не удались попытки либеральных реформ?
— Такие попытки, я считаю, и не могли быть удачными. Начну с того, что сама модель либерального монетаризма глубоко архаична. Она скопирована с британской политики 1820-х годов и базируется на трех китах: полная свобода оптовой и розничной торговли, контроль центрального банка или его аналога над денежным рынком посредством исключительно учетной ставки (процент, под который он кредитует коммерческие банки) и отказ государства от контроля над биржевыми операциями.
Наши либеральные правительства 1997−98 годов мечтали достичь так называемую «невозможную троицу»: одновременно фиксированный обменный курс национальной валюты, свободное движение капитала и независимую денежную политику. Я поинтересовался у экономистов: а было ли какое-то государство, реализовавшее в чистом виде «невозможную троицу»? Ответ был утвердительным: оказывается, Франция времен Июльской монархии (1830−1848). Интересная мечта, не правда ли?
На Западе либеральная модель вводилась в доиндустриальную эпоху, из нее плавно вырастало промышленное производство, а затем шел переход к нынешнему, «постиндустриальному» или «новому индустриальному» укладу. Позднее страны Запада попытались законсервировать выгодную для себя систему посредством всевозможных модификаций режима свободной торговли. Но в России такая модель вводилась в условиях высокоразвитой индустриальной экономики и сильного социального государства. Закономерно, что она привела к быстрой деиндустриализации и демонтажу социальной системы.
Были и другие моменты, которые не учли российские ультра-либералы. Во-первых, кредитно-денежная политика XIX века осуществлялась на основе золотого обеспечения; у нас же в начале 1990-х рубли были инфляционными бумажными деньгами. Во-вторых, в момент реализации неолиберальной политики в мире не было стран, более развитых, чем Великобритания и Франция, в которые шел бы отток британского и французского капиталов. А из России сразу пошел отток капитала в страны с более развитыми финансовыми институтами и более высоким уровнем потребления.
«СП»: — Если либеральная модель нам не подходит, нужны ли структурные реформы, о которых много говорят сегодня?
— Все реформы, которые проводились с середины 1980-х до начала 2000-х, сводились к трем пунктам: деиндустриализации, демонтажу социального государства, и расширению открытости внешним рынкам.
Посмотрите: ключевое слово, когда речь заходит об экономических реформах в России — это «инвестиции». Не опора на собственные силы, а получение инвестора извне. Эта модель подразумевает, что производить мы будем то, чего захочет инвестор извне, а не то, что можем и хотим мы сами. В целом, такая модель опирается на Вашингтонский консенсус — свод правил экономической политики, который был сформулирован в 1989 году.
Именно этот свод министры финансов стран G7 провозгласили в сентябре 1989 года основой мировой экономической системы. Он, в частности, подразумевает, что развивающиеся страны могут получить кредиты лишь при выполнении ряда условий: проведении приватизации, отказа от крупной государственной собственности, курса на конвертируемость национальной валюты и открытость мировым рынкам.
До начала 2000-х мы в целом следовали этим правилам. Но Вашингтонский консенсус был положен в основу политики США и Великобритании неспроста. Его задача — блокировать появления альтернативных Штатам экономик и силовых потенциалов в мире. Да, благодаря следованию Вашингтонскому консенсусу выросли страны Юго-Восточной Азии. Но надо понимать: есть экономический рост, а есть экономическое развитие — эти понятия не тождественны. Вашингтонский консенсус разрешает странам иметь экономический рост — например, производить как можно больше ширпотреба, — но он не дает им возможности развивать собственную систему производства.
«СП»: — Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия проиграла технологическое соревнование остальному миру — «оказались в числе стран, которые проигрывают, в списке стран-дауншифтеров». Это так?
— Простите, но у меня возникает встречный вопрос: а какая страна за последние полвека вообще добилась каких-либо серьезных технологических успехов? Ведь если взять сферу научных открытий, их после 1960 года почти нет — мы до сих пор живем на заделе, который создала научно-техническая революция 1940−1950-х годов.
Более того, в ряде отраслей во всем мире заметен серьезный регресс. Например, в сверхзвуковой авиации: в 1960-е мы имели сверхзвуковую пассажирскую авиацию — сейчас все от нее отказались. А по заявлениям американцев, сегодня они не способны восстановить собственную Лунную космическую программу конца 1960-х.
Тем не менее, Россия до сих пор остается второй после США страной, которая имеет полный спектр фундаментальных наук. Россия остается, кроме того, безусловным лидером мировых космических технологий, и одним из лидеров в области атомной энергетики и военно-промышленного комплекса. Именно эти отрасли являются инновационными, а вовсе не производство легковых автомобилей или ширпотреба.
На мой взгляд, за последние полвека произошла блокировка развития по всему миру — особенно на фоне действительно инновационной экономики первой половины XX века. Чтобы выйти из этого регресса, нам нужно снова перейти к мобилизационным моделям. Другое дело, готовы ли мы сами к такому переходу?
У нас только ленивый не говорит, что нужно слезать с нефтяной иглы. Но нужно понимать: этот путь предполагает некую форму мобилизации. А мобилизация — это снижение стандарта потребления, снижение оплаты труда и урезание личных свобод, прежде всего за счет сокращения свободного времени. Готовы ли мы к «новым 1930-м» или хотя бы к «новым 1950-м»? Другого пути отказа от сырьевой экономики у нас нет: в России нет ни дешевой рабочей силы, как в Восточной Азии, ни контроля над мировыми финансовыми потоками, как у США и Британии.
У нас многие с восторгом говорят о новом креативном среднем классе как источнике модернизации. На деле, именно городской средний класс выступает главным противником любой модернизации, потому что привык к высокому стандарту потребления. Наш средний класс считает нормальным работать, сидя в кафе и параллельно общаясь в социальных сетях. Для человека эпохи 1960-х это было немыслимой роскошью. Готов ли российский средний класс ужать уровень потребления для мобилизации — большой вопрос, и большая проблема…
Андрей Полунин
Источник: svpressa.ru