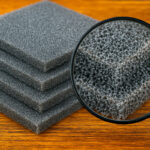Патриотическая волна захлестнула российское общество и, кажется, поднимается все выше и выше… Но что такое этот патриотизм, каким вдохновением он питается, каким обликом Родины? Первыми на память приходят лирические отступления из «Мертвых душ». Со школьных лет западает в душу гоголевский образ России — диво-земли, осиянной каким-то неземным светом, по которой мчатся, ликуя и пропадая в волшебной дали, богатырские кони. Как верить в Россию, как восхищаться ею, если не по Гоголю?
«Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..»
Но что-то в гоголевском слоге заставляет насторожиться читательский слух, самим же Гоголем воспитанный. Какие-то отголоски совсем другой гоголевской прозы слышатся в этом гимне. Где-то уже сияла перед нами эта чудная, заколдованная красота.
«Такая страшная, сверкающая красота! /…/ В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною» («Вий»). И самому читателю, как Хоме Бруту, вдруг хочется воскликнуть:
«-Ведьма! — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы».
Случайно ли это совпадение? Что, собственно, описано у Гоголя под именем России? Если мы обратимся к сравнению «Мертвых душ» с ранними сочинениями Гоголя о злых духах и бесах, то обанаружим удивительную перекличку. Комментарием к лирическим отступлениям «Мёртвых душ» послужат более ранние произведения самого Гоголя. Тогда обнаружится, что в самых патриотических местах, где гоголевский голос достигает высшего, пророческого, звучания, как бы слились воедино, бессознательно истекли из души писателя демонические мотивы его предыдущих произведений.
Образная демонология Россия
Вперенный взгляд
Сверкающая, чудная даль России, в которую устремлен взгляд писателя, в ответ сама как будто взирает на него. «Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» («Мертвые души»). Таким пристальным, завораживающим взглядом, как правило, пронизаны встречи гоголевских персонажей с нечистой силой. Этот мотив проходит и в «Страшной мести», и в «Вие», и в «Портрете», то есть во всех трёх книгах Гоголя, предшествовавших «Мёртвым душам» («Вечера», «Миргород», «Арабески»).
«Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи… Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший.» («Страшная месть»). Этот мотив продолжается в «Вие»: когда Хома стоял в церкви у гроба панночки, «философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами». «Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мёртвые, позеленевшие глаза». «…Сквозь сеть волос глядели страшно два глаза… Все глядели на него, искали…». Вообще мотив пронзающего взгляда — «подымите мне веки» — центральный в «Вие». Следует особо отметить, что вперенные глаза у демонических персонажей часто источают загадочный блеск, сверкают, светятся. «…Старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему» («Вий»).
Не отсюда ли и свет, бьющий в глаза писателю от встречно устремленных на него очей: «неестественной властью осветились мои очи»? Россия смотрит на Гоголя тем же сверкающим взглядом, каким колдуны и ведьмы всматриваются в своих жертв.
Оцепенение
У Гоголя колдовать — значит оцепенять. «Богопротивный умысел» колдуна, приманивающего к себе душу своей спящей дочери, — и заколдованного еще более страшной силой взгляда рыцаря-мстителя: «Посреди хаты стало веять белое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло в лицо его. Но отчего же вдруг стал он недвижим, с разинутым ртом, не смея пошевелиться…? В облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо. …Чем далее, выяснивалось больше и вперило неподвижные очи. (…)…Непреодолимый ужас напал на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако так же неподвижно глядела на него… острые очи не отрывались от него» («Страшная месть»). В этой сцене колдовства сплелись два мотива: сверкающие, неподвижные очи — и голова, осененная облаком, что, вероятно, проливает свет и на магическое значение «облака» в лирическом отступлении о России. Перекличка двух произведений почти дословная: «Обратило на меня очи… главу осенило грозное облако» («Мертвые души») — «вперило неподвижные очи… голова сквозь облако» («Страшная месть»).
Вот еще ряд колдовских сцен, где сверкающие глаза связаны с мотивом оцепенения и неподвижности. «…Старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть её руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах» («Вий»). «…Зачем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И ещё, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжёлое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством» («Мертвые души»).
Свет и звон
У колдовского пространства напряженный цветовой колорит и звуковой тембр, в нём разливается сиянье и слышится звон. Если представить гоголевскую Русь в удаляющейся перспективе, то она прежде всего поразит сверканьем и звоном. «…Неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..» «…Не молния ли это, сброшенная с неба?… Чудным звоном заливается колокольчик…»
Опять-таки уже слышался у раннего Гоголя этот чудный звон, соединяясь с чудным сияньем: «Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет… И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты…» Это колдун ворожит, призывает к себе душу дочери Катерины, чтобы склонить на богопротивную связь («Страшная месть»).
Призрачный свет
Колдовской свет исходит не от солнца, но из царства тьмы, в нём есть что-то призрачное, мерцающее — то ли луна играет своими чарами, то ли светит какое-то загадочное ночное солнце («Вий»). «Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами» («Вий»). «Сиянье месяца усиливало белизну простыни… Лунное сияние лежало все ещё на крышах и белых стенах домов…» («Портрет»).
Этот же хронотоп колдовской ночи, высветленной, даже выбеленной изнутри, находим в лирическом отступлении «Мертвых душ»: «Сияние месяца там и там: будто белые полотняные платки развешались по стенам, по мостовой, по улицам… подобно сверкающему металлу блистают вкось озаренные крыши… А ночь! небесные силы! какая ночь совершается в вышине!» Особенно поразителен почти дословный параллелизм «Портрета» и «Мертвых душ» в описании того, как действие лунных чар усиливается белизной простыней/полотняных платков и стен/крыш.
Звон и рыдание
В заколдованном мире звуки, подобно свету, возникают словно ниоткуда, само пространство разносит их — и они впиваются в душу неизъяснимым очарованьем, в котором слиты восторг и унынье. Хома несётся на ведьме: «Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит, и вьется, и подступает, и вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью…» («Вий»). Такая же вопросительная интонация — в лирическом отступлении о России: «Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца?» («Мертвые души») Те же слова, та же мелодия их сочетанья: «вьется… и вонзается в душу», «стремятся в душу и вьются».
При всей звонкости этой песни есть в ней что-то болезненное, жалостное, рыдающее. Именно звуковой образ позволяет понять: чувство, каким Россия отдается в сердце автора, то же самое, каким сверкающая красота панночки отдаётся в сердце Хомы: «Она лежала как живая. (…) Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе» («Вий»).
Зародыш того лирическо-демонического пейзажа, который широко раскинулся в «колдовских» сочинениях Гоголя и в конце концов слился с образом России, мы находим в «Бесах» Пушкина, герой которого тоже потерялся в «необъятном просторе», наполненном звуками «жалобной» песни:
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
… Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…
«Надрывая сердце» — «рыдает и хватает за сердце». «Бесы», как и «Ночь перед рождеством», написаны в 1830 г. , и в них можно найти почти дословное совпадение : «мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине» — «все было светло в вышине… вихрем пронесся… колдун…, клубился в стороне облаком целый рой духов…» Но то, что у Пушкина отдает жутью, у Гоголя пока еще овеяно духом фольклорной забавы, лишь позднее войдёт в этот полночный сияющий пейзаж «бесовски-сладкое чувство» («Вий»).
Быстрая езда и мелькание
Важнейший мотив гоголевского лирического отступления — скорость, стремительное движенье России-тройки — не то скаканье по земле, не то уже полет над землею:
«И какой же русской не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе… Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?…»
Здесь впервые в «патриотическом месте» поэмы прямо поминается черт. Хотя Гоголь прячет своего давнишнего персонажа под стершейся идиомой («черт побери все»), сам контекст подчеркивает ее прямой, демонический смысл, поскольку рядом говорится о «неведомой силе». Знаменательно, что сравнение тройки с птицей предваряется у раннего Гоголя сравнением черта с птицей. «Вези меня сей же час на себе, слышишь, неси, как птица!» — приказывает Вакула черту, и тот покорно подымает его в воздух, «на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу…» Так что соединение снижающего образа «черта» и возвышающего образа «птицы» уже задано в ранней повести. Вокруг мотива быстрой езды выстраивается устойчивый образный треугольник: тройка — птица — черт.
Полет Вакулы верхом на черте и Чичикова на тройке — вариации одного мотива. Знаменательно, что черт, приземлившись вместе с Вакулой, «оборотился в коня» и стал «лихим бегуном». И дальше вихревое движение этого черта-бегуна совпадает по пластике изображения с бегом коней, олицетворяющих Русь. «Боже мой! стук, гром, блеск…: стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон…; мосты дрожали; кареты летали… огромные тени их мелькали…» («Ночь перед Рождеством»). «…И сам летишь, и все летит; летят версты…, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль… Гремят мосты, все отстаёт и остаётся позади… Что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? …Гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли…» («Мертвые души») Одно и то же «наводящее ужас движение» изображено в полете на черте и в полете на тройке: «мосты дрожали» — «гремят мосты»; «кареты летали» — «летит вся дорога»; «отзывались громом» — «гремит воздух»; «пешеходы жались и теснились» — «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».
Гоголевское величание Руси-тройки достигает мистического апофеоза в словах «и мчится вся вдохновенная Богом». В ранней повести Гоголь придает юмористическое звучание этому патетическому образу. Вакула, принесённый в Петербург чертом, засовывает его в карман и входит к запорожцам, которые приветствуют его: «Здорово, земляк, зачем тебя Бог принёс?» Черт «нечаянно» назван Богом. И такое же головокружительное превращение — словно незаметно для автора — происходит в лирическом отступлении. «Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» — «мчится вся вдохновенная Богом» (5, 232-233).
В нижеследующей сборной цитате трудно различить фрагменты двух произведений, настолько плавно они перетекают друг в друга, демонстрируя стилевое единство демонического хронотопа:
«А ночь! небесные силы какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!..» («Мертвые души»). «Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. (…) Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хоть и неполном свете. Долины были гладки, но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах» («Вий»). «…Что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет…» («Мертвые души»).
И сама тройка то и дело рассыпается прахом и пылью, уносится в никуда. «И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка» («Мертвые души», 5, 208).
Блок выдает тайну Гоголя
Демонически-эротический подтекст гоголевского образа России ясно выступает не только в его собственном, раннем творчестве, но и в последующем движении русской литературы, прежде всего у Александра Блока, который накрепко связал в своей поэзии два этих мотива: «демонической женственности» и «вдохновенного патриотизма». Образы колдуньи, «незнакомки», «снежной девы», с её чарами, заклятиями, волхованьями, пронизывают всю лирику Блока, особенно периода «Снежной маски». Мы узнаем мистическое сладострастие «Вия» в таких стихах, где лирический герой, заколдованный «очами девы чародейной», уносится на вершины, падает в бездны, растворяется в метели, вновь и вновь испытывает судорогу «быстрой езды» в объятиях ведьмы, которую называет «Россией». Это дразнящая и гибельная красота, влекущая за собой до задыхания в бесконечность и куда-то пропадающая.
И, миру дольнему подвластна,
Меж всех — не знаешь ты одна,
Каким раденьям ты причастна,
Какою верой крещена.
…Вползи ко мне змеей ползучей,
В глухую полночь оглуши,
Устами томными замучай,
Косою черной задуши.
…И пронзительным взором
Ты измерила даль страны…
Ты опустила очи,
И мы понеслись.
И навстречу вставали новые звуки:
Летели снега,
Звенели рога
Налетающей ночи.
И под знойным снежным стоном
Расцвели черты твои.
Только тройка мчит со звоном
В снежно-белом забытьи.
Ты взмахнула бубенцами,
Увлекла меня в поля…
Душишь черными шелками,
Распахнула соболя…
…Каким это светом
Ты дразнишь и манишь?
В кружении этом
Когда ты устанешь?
Чьи песни? И звуки?
Чего я боюсь?
Щемящие звуки
И — вольная Русь?..
…Ты мчишься! Ты мчишься!
Ты бросила руки
Вперед…
И песня встает….
И странным сияньем сияют черты…
(Из цикла «Заклятие огнем и мраком»)
Блок досказывает то, что оставалось недосказанным у классиков 19-го века, — то, о чем они не догадывались, чего страшились, в чем не смели признаться самим себе. Блок восстанавливает пушкинское наполнение бесовского пейзажа — метельное, вьюжное, но там, где у Пушкина только страх и отчаяние заплутавшего путника, у Блока — «бесовски сладкое чувство» гибельного полета вслед непостижимой силе, зовущей от имени родины.
«Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце?» — вопрошал Гоголь. «Что мне поет? Что мне звенит? Иная жизнь! Глухая смерть?» — вторит ему Блок и уже дает свой ответ. Для Блока эта «влекущая красота», низводящая ангелов, смеющаяся над верой, попирающая заветные святыни, открывается и воспевается в его собственной Музе. «Кто раз взглянул в желанный взор, тот знает, кто она» — говорит Блок о своей незнакомке. Собственно, Панночка-Россия, с её страшной, сверкающей красотой, и становится Музой Блока, поэзия которого так же вышла из «Вия», как, скажем, проза Достоевского из «Шинели».
Чтение Блока в свете Гоголя позволяет, в частности, понять, как и почему Россия из старухи превращается в юную красавицу («Новая Америка»): ведь это превращение уже совершилось в «Вие». Помолодевшая ведьма» — так можно обозначить этот мотив русской словесности.
Там прикинешься ты богомольной,
Там старушкой прикинешся ты…
Нет, не старческий лик и не постный
Под московским платочком цветным!
Шопотливые, тихие речи,
Запылавшие щеки твои…
«Новая Америка»
Здесь угадывается вариация на тему Гоголя: «…Точно ли это старуха? (…) Он стал на ноги и посмотрел ей в очи… Перед ним лежала красавица, с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами». Кстати, и «запылавшие щеки» тоже содержат реминисценцию из Гоголя — вспомним «погубившую свою душу» деву-русалку из «Страшной мести»: «щеки пылают, очи выманивают душу… Беги, крещеный человек!» («Страшная месть»).
Так Блок выдает тайну гоголевской России, отчасти сокрытую от самого творца. В статье «Дитя Гоголя» (1909) Блок, исповедуя свою веру и завороженность Россией лирических отступлений, утверждает, что Гоголь носил под сердцем Россию, как женщина носит плод, — и тут же проводит поразительное уподобление: «перед неизбежностью родов, перед появлением нового существа содрогался Гоголь: как у русалки, чернела в его душе ‘черная точка'». Блок не мог не знать, к какому гоголевскому образу отсылает это сравнение. В «Майской ночи» утопленница просит Левко найти в хороводе среди своих подруг затаившуюся там злую мачеху — «страшную ведьму». И Левко замечает среди девушек одну, с радостью играющую в хищного ворона: «тело ее не так светилось, как у прочих: внутри его виделось что-то черное… — Ведьма! — сказал он, вдруг указав на нее пальцем…»»
Вот с этой-то русалкой-ведьмой, точнее, с черной точкой внутри нее, и сравнивает Блок ту «новую родину», которую носил под сердцем Гоголь….
Михаил Эпштейн
Источник: chaskor.ru