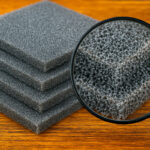Как пишет свои книги Светлана Алексиевич? Что в ней от того самого «красного человека», главного героя ее произведений? Как этот «красный человек» появился и как умрет? Стоит ли рассказывать о нем в школах? Об этом и многом другом мы поговорили с первым за историю независимой Беларуси нобелевским лауреатом по литературе.
 Фото: Стефан Эрикссон для TUT.BY
Фото: Стефан Эрикссон для TUT.BY
Вы ощущаете себя белорусской писательницей?
Мое мировоззрение совершенно иначе устроено. После Чернобыля этих вопросов — русская, белорусская — для меня не существует. Когда я ездила туда, видела брошенные земли, где живут уже только одни звери, было ощущение, что уже не важно, украинец ты, русский или белорус. Ты уже просто человек, биологический вид, который может себя уничтожить.
Мать у меня украинка, отец — белорус. Человек я русской культуры, без Достоевского и Чехова, без русской религиозной философии меня нет. Точно так же меня нет без белорусских пейзажей, детских воспоминаний. Так что это всё вместе. Мое мировоззрение скоро, наверное, будет господствовать в мире, человек будет чувствовать себя просто человеком.
Интересно, что в России, когда вас и хвалили, и ругали, вас называли «нашей»: «наша гордость» или «наша предательница». Как вы к этому отнеслись?
Я отнеслась к этому очень спокойно. Так всегда в русской культуре. По-моему, только Шолохова, он был просталинский человек, советская власть помогала издавать. А все остальные были враги, предатели.
А с теми, кто вас в России хвалит и говорит, что «она наша», вы согласны?
В каком-то смысле да. Мы все недавно советские были.
Вы несколько лет назад вернулись из Европы в Беларусь. В Украине или России вы себя также ощущаете дома, как и в Беларуси, или с ней есть что-то особенное?
Да, конечно, Беларусь — это дом, в котором я всю жизнь жила. А в те страны я просто приезжала.
Еще один упрек в ваш адрес: вы, скорее, журналист, а не писатель. Вы согласны с этим замечанием?
Да нет. Мы какие-то удивительные люди, мы не впустили себя в мир. Да, империя пала, разделились, и казалось бы — есть какая-то форма свободы, хотя бы благодаря технологиям. Ты включил компьютер — и ты в мире. Ты можешь поехать, куда хочешь, и читать, что хочешь. Тем не менее мы живем на каком-то отшибе: и белорусы, и русские. Вот кстати, в Украине я меньше всего это слышала. Люди как будто бы выскочили в другой мир, единственные на постсоветском пространстве.
Вот это неслышание того, как жизнь сегодня идет, меняется ее ритм, содержание, оно ищет новые формы: уже есть вербатим (документальный театр. — TUT.BY), уже есть жанр устной истории.
Да, у меня форма добычи материала «как бы журналистская». Я выхватываю, очищаю. Когда у Родена спросили, как у него получаются такие скульптуры, он сказал: я беру кусок мрамора и отсекаю все лишнее. Вот я делаю то же самое. Так можно сказать, что и Роден каменотес.
В ваших работах вас как автора много?
Да, мои книги — это мои герои и это я. Из разговора с этими людьми можно сделать совсем другие книги. Сколько, например, книг о войне — это были совершенно другие книги. Или о Чернобыле… А это я выбираю, это мой образ времени.
То есть это не объективная передача реальности?
Объективно не может быть. Вы не можете столкнуться с реальностью лоб в лоб. В моих книгах очень много метафизического, иррационального. Реальностей много, просто нам очевидна одна. Только через метафизику ты можешь пробиться к какому-то ощущению реальности.
Все ждут самого авторского комментария, но комментарий — это то, что просыпается, как песок. Есть очень хорошая «Блокадная книга» Адамовича и Гранина. Там есть рассказ, дневник мальчика, который погиб от голода в Ленинграде. И он рассказывает в этом дневнике, как мама умерла, папа умер, потом говорит, что чувствует, что тоже умирает. Рядом с ним живет соседка, которая где-то устроена, у нее нормальная еда, иногда у нее даже остается полкотлетки. А это коммунальная квартира. И он мучается, взять эти полкотлетки или нет. Она не заметит. Он решает все-таки не брать. Мальчик, может быть, остался бы жив, если бы их своровал. Он объясняет, что он этого не может сделать. Рассказав этот факт, писатели начинают пафосно комментировать, две страницы о русской интеллигенции, о традициях. А я себе говорю: не становись рядом с этой котлеткой, ты никогда выше ее не станешь. Ты должен, как автор, вычистить этот кусочек мрамора.
Есть ли люди, у которых вы взяли интервью, а они не попали в книгу?
Конечно, очень много. В книгу попадает одно из семи, одно из десяти. Я выбираю то, что соответствует искусству. С многими людьми происходят небанальные вещи, а они говорят банальные тексты. Я же ищу собеседника-творца. Люди, когда рассказывают, они творят. Опять-таки, не надо думать, что это стопроцентная реальность. Это люди, это их образ времени. То, что я беру у них, это мой образ. На пересечении этих образов и рассказов создается такая температура, что она высекает фальшь.
Откуда взялся ваш герой, «красный человек»? Что его сформировало?
70 лет его формировали.
Какие-то предпосылки были до этого?
Я думаю, да. В русской ментальности это есть. Почему-то идея марксизма нигде больше не прижилась, хотя она была очень популярна во всем мире. Вот в Швеции в старшем поколении через одного увлекались коммунизмом. Во Франции… Как говорил один французский философ, Советский Союз был опиумом для интеллектуалов. Потом, конечно, осталось море крови и слез. От всяких утопий только это и остается. Об этом я и писала 40 лет и пыталась понять. Я уверена, ваш отец — «красный человек», я — «красный человек».
Что в вас от «красного человека»?
Я очень долго верила в социализм с человеческим лицом, очень долго от этого освобождалась. Думаю, и сегодня осталось. Я до сих пор не могу видеть, как женщина, живущая недалеко от меня, учительница, покупает два яйца. Для меня очень большая проблема — купить ей десять яиц, как это сделать, я ведь могу ее унизить. А богатство наглое я, честно говоря, не могу видеть. Не потому, что я, как Лукашенко, не принимаю богатых людей или не понимаю. Но та наглость, с которой оно появилось, у кого оно появилось и как оно появилось, я этого видеть не могу.
Но это же социал-демократические взгляды…
А я социал-демократка, я не либерал.
…они распространены и в Европе, почему же вы считаете это наследием «красного человека»?
Я считаю, что наш путь был от социализма к социал-демократии. Вы думаете, «красный человек» — это какое-то чудовище, которое стоит с наганом как энкавэдэшник? «Красный человек» травмирован этим опытом, попыткой предложить миру альтернативную цивилизацию. Ленин и остальные же не были бандитами сначала, это уже потом, когда они стали держать власть, это закончилось огромной кровью. Почитайте письма молодого Дзержинского. Я как-то делала материал, меня даже обвиняли, что я восхищаюсь Дзержинским. Это потрясающие письма, как он представлял, что будет служить людям, миру, как он сидел в тюрьме, как он отдал свитер больному товарищу, заболевая чахоткой. Это были нормальные люди, но что власть с ними сделала… Они поняли, что держать такую страну можно только огромной кровью, вот они и держали.
 Фото: Стефан Эрикссон для TUT.BY
Фото: Стефан Эрикссон для TUT.BY
Есть ли, на ваш взгляд, в тех людях, кого вы называете «красным человеком», доля вины за то, что они такими стали? Или это лишь действие внешних сил?
Люди сделали выбор в силу ментальных, в силу исторических причин. Русские сделали этот выбор и подчинили себе народы вокруг себя, потому что нашлись и в Беларуси люди, которые в это верили, и в Азербайджане, и везде. А потом людей стали обрабатывать. Это же Геббельс сказал: дайте мне СМИ, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Но каждый из нас сам делает выбор.
Другое дело, что мы так воспитаны, что люди себя чувствуют одним большим народным телом. В России на огромном пространстве один человек не существовал, как в этой маленькой Швеции. Он был подчинен добыванию этой земли, и ты исчезал, тебя не было, был народ. И понятия личного греха не было. Да, ходили, молились, но церковь была частью идеологии. Как и сейчас она становится. Человек должен сам отвечать на эти вопросы, но он не отвечал, потому что не жил сам.
Какое будущее у «красного человека»?
Конечно, он исчезнет. Он уже исчезает. Но он исчезнет с кровью. В конце концов мы станем как все. И белорусы тоже, если им удастся выскочить в Европу вслед за Украиной. Но кто даст? Ведь что такое Россия без Украины и Беларуси? Ничего.
Рано или поздно мы станем как все. Но как говорит один мой герой: кому мы тогда будем интересны?
Без насилия этот путь обойтись не может?
Боюсь, что нет. Мы же видим, сейчас опять началась эпоха варварства. Невозможно включить телевизор, чтобы не увидеть, как диктор, захлебываясь, говорит: новый крейсер выпустили, новую подводную лодку, посмотрите, у нас лучшие самолеты, в Сирии мы поразили цель на расстоянии 1500 км. Нефтяные деньги ушли на создание огромной армии, которая хочет продемонстрировать миру свое величие. То есть не демократия — свидетельство величия, а вот — за 1500 километров убить неизвестных людей.
«Красный» белорус, «красный» украинец и «красный» русский — разные люди?
Когда-то они были одинаковы, но сейчас у каждого свой путь. У нас в Беларуси время остановилось, у нас какое-то странное самодержавие с примесью социализма. Белорусы как-то спокойнее, у них нет такой агрессивности. Хотя это тоже сложно сказать. Вторая мировая война показала, что культура быстро слетает с человека, с любого. Единственное, мне гордо за белорусов: если литовцы сами убили своих евреев, если украинцы сами выдавали и убивали своих евреев, то белорусы могли за мешок муки сдать еврея, но сами все-таки не устраивали расстрелов. Они вели себя лучше, чем другие народы, даже поляки.
«Красный человек» был создан, как вы и сказали, в том числе и пропагандой. Сегодня мы видим новый всплеск антизападной, имперской, шовинистической пропаганды. Формируется ли в новом поколении новый «красный человек»?
Не знаю, в Беларуси я этого не чувствую, в России чувствую. Во-первых, всем нравится Путин. Спрашиваю, почему нравится. «А нам надоело, что родители такую страну… потеряли, — ну, они хуже говорят, не „потеряли“. — Я хочу жить в большой стране».
Это тот же «красный человек» или другой?
Какой-то новый, потому что у него шенгенская виза, у него есть какая-то собственность, он отдыхает в Египте. Это уже другой человек, потому что у советского человека не было ничего, кроме идеи. Этот хочет иметь и дом красивый, и машину. Даже уже не знаю, «красный» он или «полукрасный». «Послекрасный», наверное.
Сразу после награждения вас Нобелевской премией Министерство образования заявило, что включит ваши книги в школьную программу. Вы рады, что включат, хоть и только сейчас?
Не знаю, вопрос еще, включат или не включат. Мне очень понравилось в какой-то газете интервью с главным редактором издательства «Мастацкая літаратура» Шнипом. Его спрашивают, почему нет книг Алексиевич на белорусском языке. Он говорит: «У нас нет ее рукописей». У него тогда спрашивают: «А если она принесет рукопись?». Он: «Ну, не знаю, не знаю, у нас рукописей на пять лет» (смеется). Это очень сложно. У нас же знаете, какая власть. Все решается наверху одним человеком.
Если все-таки ваши книги включат в школьную программу, какие из них и когда, вы считаете, нужно давать детям на изучение?
И «Последние свидетели», и «У войны не женское лицо» можно читать и в пятом, и в шестом классе. «Цинковых мальчиков» молодым ребятам всем стоит почитать, потому что неясно, что нас ждет, неизвестно, в какую авантюру нас втянет Россия. «Время секонд-хенд» я бы тоже включила в программу.
У нас в чем вся беда — советские учителя еще с советским пониманием, они учат молодых людей, наше будущее. Такая путаница в сознании. Я зашла в одну школу, я была потрясена, на стенах какие-то партизаны бросают гранаты, как будто только этому надо учиться.
Представьте, что ваши книги включили в программу и задали ученикам написать сочинение по вашему творчеству. Как вы сами сформулировали бы основную мысль, которую они должны вынести из всей вашей серии книг?
Быть человеком трудно, это тяжелая работа. Но всегда нужно.
Светлана Алексиевич родилась в 1948 году в Иванo-Франковске (Украина). Окончила отделение журналистики Белгосуниверситета. Литературную деятельность начала в 1975 году. Первая книга — «У войны не женское лицо» — была готова в 1983-м, но вышла в нескольких издательствах только после начала перестройки. Общий тираж дошел до 2 млн экземпляров.
Также перу Алексиевич принадлежат художественно-документальные книги «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хенд» и другие произведения.
Артем Шрайбман
Источник: news.tut.by