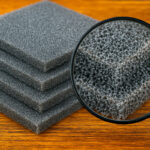Каждый прожитый послесоветский день прибавляет нам понимания, что представляло собою явление, задним числом названное Великой Октябрьской социалистической революцией, а по свежим следам именовавшееся просто октябрьским переворотом, даже без большой буквы в первом слове. Все больше укрепляешься в правоте Пастернака, сказавшего, что это было такое великое событие, о котором подобает говорить или с величайшей серьезностью, или никак.
Вслед за тем сразу, поистине сама собой, является мысль о роли личности в этой истории и тут же – о потенциале демагогии, диатрибы и пропаганды. Уже через пару-тройку лет после успешной русской и захлебнувшейся немецкой революций Вебер по-немецки скрупулезно вывел основные условия, при которых политический вождь может повести за собой массы. Прежде всего, он должен обещать и обещать, не зная устали и никакого удержу – обещать решение всех насущных проблем. И непременно в кратчайшие сроки! С его языка не должны сходить два слова: «справедливость», которая восторжествует под его началом, и «враги», народные обидчики, которые будут жестоко подавлены и покараны. При этом он должен обладать природным обаянием (харизмой), способностью увлекать, очаровывать, зомбировать людей всем своим видом. Он, наконец, не должен ни секунды сомневаться в огромности дела, которому служит, в своем призвании. Наконец верить каждому своему слову, изрекаемому на людях.
На сорокаградусном морозе
С крыш спокойно капает вода.
Если рассказать об этом в прозе,
Люди не поверят никогда.
Он, следовательно, должен быть не прозаиком, а поэтом по жизни – как Иван Александрович Хлестаков или Александр Григорьевич Лукашенко. На встрече с ветеранами Второй мировой войны в Екатеринбурге последний однажды сказал со слезами на глазах, что никто не понимает их лучше, чем он, сын погибшего фронтовика. Они хлопали ему и плакали, плакали и хлопали, и никому не пришло в голову задаться вопросом, как у погибшего фронтовика мог через десять лет после войны родиться будущий белорусский Батька. Потому что это не пришло в голову ему самому, сыну павшего героя. Почти за год до Октября Ленин обещал по ежедневному стакану бесплатного молока каждому ребенку в рабочей семье. Ввиду обозначившихся трудностей с хлебом, утверждал, что хлеб в стране есть, а чтобы в этом убедиться, надо просто отменить коммерческую тайну как гнуснейшую уловку эксплуататоров. Став у руля государства, обещал коммунизм не позже чем через десять лет.
Отдельно возвышается грандиозная сдвоенная фигура пропагандиста и особенно агитатора-горлана. Один такой стоил, бывало, дивизий. За два десятка лет до Октября чумазый заводчик-хищник, персонаж Серафимовича, говорит забредшему в его вотчину красному подстрекателю: «Я со своим рабочим, которого ты будоражишь, – мы прикованы к одной тачке. Меня нет без него. Его нет без меня. Не лезь к нам третьим лишним. Мы поладим как-нибудь без тебя». Горлан не отстал – и тачка в конце концов перевернулась.
Невозможно не впасть в глубочайшую задумчивость, складывая одно к одному свидетельства о состоянии народной души перед Октябрем. За века накопился огромный заряд зависти-ненависти к власть имущим, к собственникам, к барам, к попам, ко всему привилегированному, вообще к чистой публике. До последнего дня существования царской армии офицеры били солдат. Страшно тяжело было дышать всем. Задыхался в имении Блока крестьянин, задыхался в столице сам Блок.
И, встретившись лицом с прохожим,
Ему бы в рожу наплевал,
Когда б желания того же
В его глазах не прочитал.
Ощущение, что так дальше жить нельзя, было у всех. Страна не шла – она неудержимо неслась к войне всех со всеми. Пусть станет хуже, чем было, пусть все полетит к черту, но этот уклад должен быть сметен, хозяева этой жизни должны быть сведены под одно, в лучшем случае на уровень батрака и прачки. Все тот же Ленин был совершенно прав, когда в ответ на упреки, что слишком рьяно со своей командой рушит все вокруг, говорил: «Массы в сто раз радикальнее нас». Ясно, что при этом всем легкая – легчайшая! – бескровная победа могла быть закреплена только террором. Любимое детище Ильича… Перед Парижской коммуной он преклонялся, но порицал ее и втайне, конечно, презирал ее вождей за то, что не перестреляли хотя бы половину Парижа. Дальше – больше. Первым в истории вождь мирового пролетариата сообразил, что террор может и должен быть средством не только подавления недругов коммунизма, но обязательным, незаменимым средством построения оного. Этот вклад в сокровищницу левой мысли нельзя переоценить, если учесть, что террор в качестве строителя новой жизни, то усиливаясь, то ослабляясь, просуществовал до самого завершения величайшего из социальных экспериментов.
Вот такая выстраивается картина маслом. Готовый крушить все и вся народ. Вождь, обещающий ему все самое лучшее против всего самого плохого – и немедленно. Народное легковерие. Государственный террор как главная скрепа. Осталось сделать последний штрих – указать единственного реального создателя этой картины, а заодно всего, что было на Земле от начала времен. Наполеон перед смертью назвал этого правителя-распорядителя, этого начальника истории случаем. Как ни странно, Ленину, этому утописту до мозга костей, был близок такой взгляд. Поразительна, например, та трезвость, с какой он признал через год после Октября, что возглавляемая им власть продержалась этот год только чудом, что им страшно подфартило, что это случай, который надо благодарить всеми силами души и, разумеется, не профукать.
На что рассчитывать, теперь знаем и мы.
Анатолий Стреляный
Источник: svoboda.org