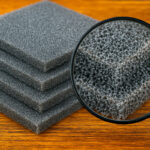Важное свойство обывателя — короткая память, которая, по Хемингуэю, наряду с крепким здоровьем представляет собой настоящий рецепт счастья. Но обыватель вдумчивый, не говоря уже о представителях экспертной и политической элиты, помнит, например, что еще недавно Европа была нашим главным партнером, а тут вдруг примерила на себя одежку геополитического врага. О пропорциях фарса и драмы в этой истории «Новая» побеседовала с Игорем ЮРГЕНСОМ, председателем правления Института современного развития.
— Когда говорят о новой холодной войне между Россией и Западом, под Западом в первую очередь понимаются США, а под «войной» — различные геополитические, дипломатические и отчасти военные манипуляции. В реальности же на переднем краю борьбы со стороны Запада находится Европа, и основное противостояние разворачивается в сфере экономики. Можно ли сказать, что мы с Европой на ровном месте ввязались в игру, в которой обе стороны проигрывают и ничего не приобретают?
— Нельзя сказать, что на ровном месте. Неоднократно лидеры как объединенной Европы, так и отдельных стран говорили, что как только будут выполнены Минские соглашения (хотя речь идет о более широком спектре вопросов), то, по крайней мере, финансовая часть санкций уходит, и начинается несколько другая жизнь. Это значит, что позиция Европы в определенном смысле вторична. Санкции затрагивают ее в первую очередь, а политическое решение о том, что именно таким способом объединенный Запад противодействует нашему поведению в Украине, инициировано, конечно, в США.
Я присутствовал на нескольких совещаниях, скажем, западных элит, где, в частности, такой известный человек, как Генри Киссинджер, ссылаясь на американское руководство, говорил своим коллегам-европейцам: «Вы перед нами ставите вопрос о том, чтобы мы вас поддержали в вашем противостоянии России по украинскому кризису. При этом вы давно отходите от всех расходов, связанных с НАТО, и хотите всю ответственность переложить на нас. Но так не получится. Если у вас есть объединенная воля, транслируйте ее президенту Обаме, мы будем соответствующим образом реагировать. Но это не наш кризис, это ваш внутриевропейский кризис».
Европа несет максимальные потери в результате этого противостояния, с одной стороны, но, с другой стороны, она всегда была вторична в военно-стратегическом отношении, потому, что начиная с Второй мировой войны была под зонтиком США. Посмотрите: лимитрофы, так называемые бывшие советские республики, теперь входящие в ЕС, в случае возникновения какой-либо угрозы апеллируют не к Брюсселю, а к Вашингтону.
Да, безусловно, основные потери от обострения несут Россия и Европа. Европа будет, с моей точки зрения, намного мягче, чем Соединенные Штаты, когда и если будут выполнены основные требования Минских соглашений, и в «нормандском формате» произойдет пацификация украинского кризиса и начнется политический процесс.
Американцы пока готовы стоять до конца по вопросу Крыма. Мне кажется, что европейцы будут занимать более нюансированную позицию, будучи готовы отложить окончательное решение вопроса. Урегулирование проблемы Северного Кипра, например, длится уже 40 лет. Они не готовы будут, наверное, исходя из пропагандистских и политических соображений, признать Крым как нашу территорию довольно долго, но можно пройти острую стадию, снять часть санкций — об этом можно было бы договариваться.
— Как бы вы оценили сейчас украинский кризис: это классический «черный лебедь» — или все-таки результат постепенного накопления системных противоречий между Россией и Европой, в том числе в экономической сфере? Ведь триггером конфликта послужило намерение Украины подписать договор об ассоциации с ЕС…
— Все это длительный процесс. Тезис «Европа — общий дом», напомню, выдвинул еще Михаил Сергеевич Горбачев. Мы пытались строить единое пространство — от Лиссабона до Владивостока. И каждый из наших президентов, начиная с Горбачева, вносил свой вклад. Правда, происходило это довольно хаотично.
В 90-х нас воспринимали как страну, которая очень ослабла и нуждается в помощи, и эту помощь оказывали по целому ряду направлений. Например, программы ТАСИС, низкопроцентные кредиты, прямые иностранные вложения, обучение кадров… Европейцы так, как они себе это понимали, оказывали содействие России в ее адаптации в трудной ситуации распада большой империи.
Происходили институциональные изменения.
Я проскакиваю ельцинский период, который был очень хаотичным. Системные шаги начались при Путине. Четыре пространства — внутренней и внешней безопасности, гуманитарное пространство, экономическое, а также «Партнерство ради модернизации», — все это были не пустые слова, а конкретные дела. От унификации промышленных стандартов, серьезного послабления во взаимных путешествиях, признания дипломов мы дошли до совместных маневров с НАТО.
— Да, в 2007—2008 годах.
— Тем не менее накапливались противоречия. Мы приводили себя в порядок и возвращали статус великой державы со своими собственными, как нам виделось, национальными интересами и сферой влияния. Европа, в первую очередь «новая» (по американской терминологии) Польша и другие восточноевропейские страны, постоянно выдвигала России претензии, обоснованные и не очень. Это несколько поменяло общий климат. К нам по-прежнему относились как к потенциальному стратегическому партнеру, но, во-первых, с большим количеством замечаний по поводу поведения, начиная от прав человека, демократии (а она действительно развивалась у нас очень неровно), кончая озабоченностями малых государств. Это начинало раздражать.
— Эмоциональный климат, безусловно, важен, но можно ли выделить конкретные, системные действия?
— Можно вспомнить, к примеру, о размещении противоракет и создании баз НАТО в Румынии, Болгарии, об усилении военного присутствия по всему периметру наших границ. А поворотным моментом, с моей точки зрения, стало принятие программы «Восточного партнерства». Программа, которая внешне выглядела как создание круга безопасности и сотрудничества Европейского союза со всеми своими соседями (это и Восточная Европа, и Кавказ плюс арабские страны в рамках «Южного партнерства»). Программа была анонсирована, а с нами не проконсультирована. Мы на экспертном уровне (я в таких дискуссиях участвовал) задавали вопросы: «Вы вовлекаете в одну программу шесть очень разных постсоветских государств. Азербайджан, Армения, Белоруссия расценивают это или нейтрально, или скорее подозрительно. Грузия, Молдова, Украина — с разной степенью энтузиазма.
Вы, даже не пригласив к дискуссии Россию, сказали, что вы потратите на эту программу около 800 миллионов евро — для гармонизации стандартов, на создание институтов демократии, свободной прессы… Мы на этой территории за тот же период тратим от 4 до 6 миллиардов тех же евро. В том числе газовыми субсидиями, нефтяными субсидиями, поставками, открытием своих рынков для гастарбайтеров».
В общем, не проконсультироваться и не сделать эту программу совместной, чтобы не вызвать опасений и раздражения российского руководства, было наивно.
— И вы говорили об этом как участник экспертных дискуссий?
— Да, даже я, либерал, который выступал, например, как один из авторов идеи о вхождении России в политические структуры НАТО без заключения военного союза, говорил: «Вот здесь высокомерно, неосторожно, с плохими последствиями». Повторяю: это говорил я как либерал. Что делалось в этот момент в МИДе, в разведке, в политическом руководстве, я подозреваю…
Когда европейцы запустили проект «Восточного партнерства», он предусматривал для членов и партнеров экономическую ассоциацию. Она не предусматривает ни вступления в ЕС, ни даже новых шагов в этом направлении.
В результате Армения вступила в наш Таможенный союз, Беларусь продолжала оставаться с нами, Азербайджан смотрит на все скептически и больше ориентируется на турецких партнеров, которые уже 50 лет ждут присоединения к европейским интеграционным форматам.
— То есть на этом этапе можно было говорить об одностороннем вхождении ЕС на территорию, которую мы, «поднявшись с колен», считали своей?
— Нельзя было игнорировать одну седьмую часть суши и при этом создавать у грузин, молдаван и украинцев иллюзию, что через некоторое время с помощью европейцев и на их деньги они вступят в ЕС. Иллюзию, которая привела как минимум к расколу некоторых элит в Украине, в Грузии, в Молдове, а три других постсоветских государства скорее толкнула к нам. Где здесь последовательность шагов? Было ли у Путина основание в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности сказать: «Слушайте, или вы нас серьезно воспринимаете, на уровне стратегического партнерства, или, когда дело доходит до серьезных моментов, говорите, что вы приняли решение, — и до свидания?»
Поэтому, не будучи сторонником, скажем мягко, того, что было сделано в связи с украинскими событиями, я не могу отрицать, что высокомерие, игнорирование, похлопывание по плечу и завышенные требования к молодой и очень сложной российской демократии, в которой было бы трудно оперировать любому лидеру, — это был факт.
— Европа в одностороннем порядке требовала от «Газпрома», то есть от России, соблюдения норм Энергетической хартии, что было невозможно, акцентированно поддерживала альтернативные российским проекты вроде Nabucco. Россия, в свою очередь, ввела законодательство о стратегических предприятиях, фактически свернула программу большой приватизации, которая была бы интересна европейцам. Считаете ли вы подобные примеры репрезентативными, или кризис в наших отношениях объясняется исключительно политическими причинами?
— Тут есть две вещи. Первое, как сказал один раз Лавров, «элегантность не является сильной чертой российской дипломатии». Когда мы, часто обоснованно, продавливали свои решения по транзиту газа, нефти через Беларусь, Украину, потому что нам хамили, отбирали газ, воровали нефть, — сделать это можно было совершенно по-другому. В общем, мы пару-тройку раз отключили газ под Новый год. И это оказало очень серьезное влияние на европейцев, которые прежде хоть и вели себя с нами жестко, но готовы были договариваться, в рамках той самой Энергетической хартии например.
Вторая вещь — «дело ЮКОСа». Тут политика полностью вмешалась в экономическую историю. После «дела ЮКОСа» Энергохартия, с точки зрения некоторых политиков в Кремле, была для нас закрыта. Хотя прежде европейцы нас видели в качестве участников дискуссии. Но некоторые наши политики подумали, что, если мы присоединимся к Энергохартии, тогда за национализацию ЮКОСа получим по полной программе — и надо будет платить. Оказалось, как мы и предупреждали, что платить все равно надо будет, потому что суды мы не выиграли, а Энергохартию проиграли.
— Европа сейчас целенаправленно и, может быть, в какой-то степени успешно ищет альтернативу зависимости от России в области энергетики. Для стран ЕС это процесс скорее позитивный, модернизационный, связанный с переходом на энергосберегающие технологии, на альтернативные источники, или это просто поиск других партнеров, других импортеров?
— Тут есть две тенденции. Первая: развитие технологий, неизбежное, никогда не прекращающееся. И вторая: политический аспект.
Технологии развиваются быстро. В 2007 году на правлении Института мировой экономики и международных отношений, где присутствовал в том числе господин Сечин, я говорил, что: а) будет сланцевый газ и б) цены на нефть упадут в лучшем случае до 50—60 долларов за баррель. Нам говорили: «Отойдите. Будет 110».
Вторую тенденцию, не связанную с развитием технологий, задали мы сами. Путин по газовым вопросам всегда выступал очень сдержанно, но вспомните новогоднего Миллера по телевизору, который, прямо как маршал Жуков, говорил: «Отключить газ!» И тогда я подумал: это тут же тиражируется, у лимитрофов и небольших стран это вызывает ужас. Я в этот момент был за границей, видел это по какому-то нашему каналу, а потом французы транслировали. И тут же реакция болгар, словаков — «А что с нами будет?»
В этом смысле совпали две вещи: мы некоторыми своими пиар-ходами толкали Европу на поиск альтернативы. Но всегда существовала энергетическая программа замены углеводородов на альтернативные источники. Ветер, солнечная энергия и так далее всегда были у европейцев своеобразным пунктом.
— Россия совершает так называемый разворот на Восток, в первую очередь, естественно, в сторону Китая. В том числе в энергетической сфере. Насколько это вынужденное движение, реакция на изменение отношений с Европой? Или это действительно какая-то стратегия?
— В идеале, поддерживая отличные отношения с Европой (почти 400 миллиардов долларов оборота) и Китаем (в этом году падение, будет 60 миллиардов, то есть в несколько раз меньше), явившись инфраструктурным, торгово-политическим мостом между двумя большими пульсарами мировой экономики, — мы бы получали ренту и жили припеваючи.
Поворот на Восток… А что такое Восток? Только Китай? Остальные важнейшие страны региона, между прочим, союзники США — Австралия, Япония, Корея, Сингапур.
Так вот, продумав это стратегически, спокойно, сделав такой же поворот на Восток, как осуществляют американцы, — мы получили бы максимум прибыли. Мы в спешке и, обидевшись на Запад, быстро разворачиваемся к «китайскому брату» для того, чтобы противостоять. Но «китайский брат» к этому не готов совершенно. Си Цзиньпин уже сказал, что Китай собирается больше вовлекать Америку в экономическое сотрудничество, несмотря на все трудности, которые у них есть по геостратегическому позиционированию в Южно-Китайском море, по проблеме Тайваня. Несмотря на это, они собираются по-прежнему дружить и сотрудничать. Поэтому взять такого союзника и сделать из ШОС или ЕврАзЭС блок, конфронтационно равный ЕС и НАТО, — не получится.
Поэтому здесь складывается впечатление слишком хаотического, под воздействием обстоятельств, разворота, который быстро никаких дивидендов, сравнимых с тем, что было в период «Партнерства ради модернизации», не даст. Хотя предстоит, безусловно, налаживать связи и с Индией, и с Китаем (это более трети населения планеты, на двоих больше 2,5 миллиарда людей).
Наш нынешний бросок на Восток, читай: в Китай, выглядит таким же скоропалительным и таким же коленопреклоненным, как наш бросок на Запад после распада Советского Союза.
Думаем на ходу. Создаем планы на ходу. Это поворот на Восток, который невозможен. Но и неизбежен.
— Ситуативные решения, которые принимаются в ответ на стратегические вызовы, не лучшим образом характеризуют качество нашей элиты. Быть может, проблема в отношениях с Западом еще и в том, что у нас на политическом уровне не представлены интересы крупного капитала, одного из бенефициаров нормального сотрудничества?
— Англосаксонская модель, доказавшая свою эффективность, —это вестминстерская парламентская демократия, разделение властей, основанные на Карта Магна, которой 800 лет. Суть простая: платишь налоги — имеешь право голоса, и должен быть услышан.
В этом смысле приблизительно так начала развиваться новая российская демократия. Но те, кто платил налоги, быстро оседлали власть. Зависимость была явная, унизительная. Надо было уравнивать позиции между олигархатом и народом, условно говоря.
Путин начал это предпринимать. Он опирался на теоретиков и практиков петербургской экономической школы типа Грефа, Кудрина — и на силовиков. Потому что обуздать олигархат без силовиков и людей, ему понятных и по крови, и по духу, — было нельзя.
Но мы сами, в данном случае говорю как человек, представляющий сектор предпринимательских интересов, бежали к этим людям для всех своих внутрикорпоративных боев. Эти люди, поняв, что они регулируют многие конфликты, довольно быстро стали очень крупными собственниками.
Путин все это прекрасно понял, и вместо уравнивания шансов он теперь опирается, безусловно, на элиту силовых структур, армии и общественное мнение, которое эту элиту воспринимает как меньшее зло в сравнении с зажравшимися олигархами. Вот что получилось вместо равновесия.
Действительно, если бы коллективные интересы людей, которые платят много налогов, были политически представлены, украинский, крымский и любые другие кризисы протекали бы совсем по-другому.
Но и работа, проведенная «либеральной группой», тоже не сведена к нулю. Наработки, которые существуют и в качестве документов, и на уровне персональных контактов, в том числе и с западными элитами, никуда не делись. Проект Европы от Лиссабона до Владивостока можно реанимировать, и, более того, над этим сейчас серьезно работают с каждой из сторон.
Алексей Полухин
Источник: novayagazeta.ru