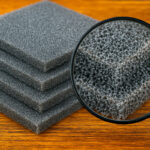Василий Арканов, журналист, переводчик, сын писателя-сатирика Аркадия Арканова и бывший репортер программы «Намедни», выходившей на телеканале НТВ, уехал из России в США в 1993 году. О том, как сложилась жизнь на новой родине, почему он не сделал карьеру на российском телевидении, где можно встретить Вуди Аллена, прогуливаясь по Нью-Йорку, интересуются ли Россией простые американцы и почему он не хочет возвращаться в Москву, Василий Арканов рассказал корреспонденту Радио Свобода.
– Кто твои соседи в Нью-Йорке, Василий? Вуди Аллена встречаешь на улице?
– Однажды я возвращался с работы домой через парк. А возвращался я все время разными дорогами. Выходя из парка, всегда старался обходить стороной российское консульство – оно было на пути…
– Почему?
– Ну вот не нравится мне этот отрезок дороги. Но в какой-то день я в задумчивости об этом забыл и пошел мимо нашего замечательного консульства. Оно между Пятой Авеню и Мэдисон. Был сильнейший ветер. И я нос в нос столкнулся с парой, которая переходила дорогу. Я увидел, что это Вуди Аллен. Классический Вуди Аллен, уцепившийся за молодую, корейского вида, приземистую и совсем некрасивую женщину. И вот они, очень тесно обнявшись, идут на ветру. У меня тогда впервые в жизни было желание подойти к звезде: «Мистер Аллен! Дайте автограф! Дайте что-нибудь!»
– Но ты, разумеется, этого не сделал и просто мимо прошел.
– Я этого не сделал, но обернулся и напоследок посмотрел, как у него развевается плащ.
– А Вуди Аллен в этот момент шепнул своей дочке и жене в одном лице: «Послушай, кажется, это был мистер Арканов с российского телевидения…»
– Нет-нет. Он, очевидно, сказал: «Блин, до чего дошло, а? Никто не узнает. Никто не подходит». Вообще, его увидеть живьем нетрудно. Он регулярно где-нибудь барражирует.
– Он же в баре еженедельно играет на кларнете.
– Ну баром я бы это не назвал. Это безумно дорогое заведение – гостиница для богатых и знаменитых, Carlyle. Вуди Аллен там по понедельникам играет. И это чистой воды обдираловка. Стоит бешеных денег, хотя ничего особенного не происходит. Приходит Вуди Аллен, достает свой кларнет, дует в него, потом складывает кларнет и уходит.
– Как и зачем ты оказался в Нью-Йорке? Это было начало девяностых годов. И все самое интересное, кажется, тогда начало происходить в России, а не в США. Тебе как журналисту не обидно было уезжать?
– Да я никогда себя журналистом не ощущал. Мой приход в журналистику был случайным. Когда решался на семейном совете вопрос о том, куда детку пристраивать, мама очень не хотела, чтобы я становился актером (а детка хотела на театральное или на режиссуру). Ну и я писал немножко рассказы тогда.
– Просто в школьную тетрадку их писал?
– Необязательно. У меня был пример отца. Он писал рассказы, которые исполнял с эстрады – и люди смеялись. Я хотел так же. Когда я ему что-то зачитывал, они с мамой очень серьезно, по-взрослому это разбирали. Иногда меня выпускали читать гостям. А гости были не самые последние на тот момент люди.
– Не самые последние – это кто?
– Горин, Ширвиндт, Андрей Миронов. Люди, которые окружали маму и отца в тот момент. Когда кто-то из них говорил, что я написал неплохой рассказ, я чувствовал, что действительно написал рассказ, а не какую-то зарисовочку про гнома. Короче, с очень раннего возраста я жил с ощущением, что могу писать. А что с этим делать в плане профессии? И вот на семейном совете порешили: журфак. Не учитывалось в этой истории только одно: то, что по характеру своему я оказался просто вагоном. Не паровозом, а вагоном, который поставили на рельсы, и он покатился. Машиниста не было. Были только рельсы, по которым я покатился.
– Значит у тебя не было журналистского интереса к тому, что Россия меняется, а вместе с ней, может, весь мир меняется. Поэтому ты просто уехал?
– У меня не было ощущения, что перемены, которые происходят, – действительно настоящие перемены. С середины 90-х стало казаться, что все реально меняется, страна меняется, люди меняются. В начале же 90-х все это выглядело иначе: может, поменяется, а может, и нет. И если не поменяется, то это опять какая-то ловушка, как в 1960-е с оттепелью. Моя мама была очень скептически настроена к происходящему в стране. Она никогда не была диссидентом, но она была человеком обожженным, обманутым. Она не верила ни одному изменению, она была убеждена, что всё равно потом придут и отберут.
– И она тебя выталкивала из России.
– Не просто выталкивала. Она сделала все для того, чтобы я уехал. Я не хотел уезжать без нее. Она пошла со мной и оформила документы на отъезд и на себя тоже, будучи уже тяжело больной. Она скрывала от всех, насколько ей плохо, слово «рак» возникло позднее. Поэтому я уезжал с ней. И вот на этом этапе она окончательно сдала, сначала попала в больницу, а потом попала домой и четыре месяца уходила. Она ушла, а я остался с документами на выезд и обрушившимся собственным миром, потому что моим миром был ее мир. Когда этот мир обрушился, мой вопрос был не про перемены в Советском Союзе, а про то, смогу ли я жить иначе в другом месте, с другими людьми по-другому.
– Так ты оказался в самолете. А что было дальше? Кто тебя встречал?
– Меня дядя мой встретил в Бостоне. Забрали чемодан и поехали к нему домой.
– Чем ты занимался для начала?
– Первые несколько месяцев я занимался писанием писем. В бешеных количествах. Всем своим друзьям и знакомым. Тонны бумаги исписал. Потом я устроился через знакомых в Комитет по содействию советским евреям. Я раскладывал по папкам какие-то дела и получал 5 долларов в час. Но в тот момент Комитет этот уже потихонечку загибался. Потом я пошел работать в одно агентство, которое устраивало людей на работу на два-три дня в какое-нибудь место, где, например, заболел постоянный сотрудник.
– Агентство, которое затыкает дыры.
– Да. И вот такой затычкой для дыры я устроился. И там для меня очень быстро нашли прекрасную работу – я должен был разносить почту, но не как почтальон, а внутри большого банка. Моим начальником был бывший вояка Роджер. В течение всего рабочего дня я должен был поступающую почту разносить по нужным столам. Это называлось runs – обеги. Я обегал банк (несколько этажей плюс соседнее здание) и в корзину для входящей почты клал письма и факсы, а из корзины для исходящей почты забирал.
– Ты был вместо электронной почты. Через тебя имейлы отправляли.
– Да, я был предтечей имейла. При этом это старый ирландский банк. Они там все ходили в костюмах, в галстуках и бабочках. Мне в тот момент было 26 лет. И мне тоже нужно было приходить в костюме. Хоть я и почтовая программа, но костюм иметь нужно было. Денег на костюм у меня не было. Но у меня был с собой один-единственный костюм, который мне купила мама. Он до сих пор у меня есть, он мне до сих пор как раз. Это супервыходной костюм из какой-то итальянской легкой шерсти, с каким-то рубчиком незаметным, особого кроя, который никогда не выходит из моды. Куплен на последние сертификаты, полученные папой за изданную за рубежом книгу. Короче, костюм с историей. И вот в нем я явился работать почтовой программой. Они все с очень большим интересом на меня смотрели и довольно быстро продвинули по службе. Вскоре я сам сидел за столом, а мне подкладывал почту в корзину кто-то другой.
– И сколько ты так просидел за столом?
– Три года. Потом я год поработал на подсобной должности в библиотеке. Потом была компания, которая занималась изготовлением баз данных на электронных носителях.
– Весь твой американский опыт точно не предполагает, что жизнь твоя вдруг круто изменится, и ты окажешься в эфире НТВ с микрофоном в руке на фоне догорающей высотки 11 сентября 2001 года.
– Ну как, я же все время думал: неужели я буду всю жизнь в банке сидеть, в библиотеке? И возраст же тикал. Я приехал в 26 лет, это уже поздновато для старта. Но можно было еще успеть. Но я все время, которое мне было отпущено на разгон, профукал. Поэтому после тридцати я начал судорожно соображать, что мне делать с собой. Выход всегда один – идти учиться. Нужно было получать американский диплом, потому что русский диплом никому здесь не нужен, даже диплом МГУ. И я попробовал для начала выбраться из Бостона. Я подал документы на факультет журналистики Колумбийского университета. Они меня взяли. И я переехал в Нью-Йорк. Отучился на факультете, который с профессиональной точки зрения фантастически поставил мне мозги на место. И у меня стала появляться вполне профессиональная работа: на американских каналах и на радио. Потом я узнал, что на НТВ – тогда еще не расколовшемся – открывается филиал в Нью-Йорке. Меня взяли туда работать. Потом было много событий на НТВ, в том числе неприятных, раскол, и я тут тоже то уходил с канала, то возвращался… И в какой-то момент, когда я очередной раз ушел, произошло 11 сентября.
– Раздается телефонный звонок.
– Мне позвонили в тот момент, когда я вышел из дома и сел в автобус. Позвонили и говорят: «Вася, ты можешь сейчас включиться?» Я говорю, мол, а что случилось? Мне отвечают, что в башню попал самолет, башня горит. Я ответил, что я в автобусе, у меня все прекрасно, ничего не горит. Мне в трубку с некоторым раздражением уже говорят: «Вася! Ты не понимаешь! Немедленно все бросай, выходи из автобуса и включайся! По телефону включайся, мы тебе позвоним». И тут я вдруг замечаю, что по авеню несутся пожарные машины. День, который казался мне абсолютно обычным, стал необычным. В автобусе звучит какое-то объявление. Потом у всех одновременно начинают звонить телефоны. Я позвонил своей знакомой и попросил ее включить телевизор и сказать, что она видит. Она включила телевизор и закричала: Oh my God! Oh my God! Я ей кричу в ответ: «Чего my God-то? Что происходит?» Шла прямая трансляция трагедии.
– Так ты вышел в свой главный телевизионный эфир.
– Я вышел в эфир только утром следующего дня, потому что телефоны все отрубили, дозвониться уже было до меня невозможно. Включился я чудовищно. Это был кошмар, но как-то он прошел. Потом пять дней мы с оператором не спали, снимали. Я же не знал элементарных вещей, и никто нам не удосужился об этом рассказать: например, что мы можем пользоваться картинкой CBS. Что не надо бежать и прорываться туда, куда не пускают. А надо спокойно сесть в углу и написать текст, как делали все нормальные корреспонденты.
– Вот именно поэтому в программе «Намедни» Парфенова стал работать ты, а не нормальный корреспондент. Ты охотился за своей картинкой и своими историями, а не рассчитывал на CBS. Расскажи, кстати, про этот период. Что такое – работать с Парфеновым?
– Это, конечно, самое яркое впечатление, может быть, всей моей жизни. И карьеры. Если считать журналистику карьерой. Новости – это, конечно, вещь прекрасная, заводная. Но возможность чуть-чуть креативить внутри того, что ты делаешь, играть со словами, чуть-чуть уходить от стандартов (а мне это казалось важным в любом деле), выделяться, делать по-своему – такого новости не позволяли. А формат Парфенова позволял. Главным с ним было то, что он стал замечать в моих сюжетах вещи, над которыми я, например, попотел. Вот я попотел над фразой, а потом попотел над тем, чтобы на эту фразу легла определенная картинка. И я сидел и выверял до миллиметра эту картинку. Никто этого не заметил, кроме меня и… вдруг звонит мне Парфенов после эфира. Парфенов! Сам! Которого я не знаю! Мне звонит! Какому-то задрыге-забулдыге, который второй сюжет в жизни делает. Звонит и говорит: «Вася, слушай, ну, ты знаешь, ты такой сюжет сделал! И вот на словах, где у тебя герой говорит, вот это вот круто появляется…» И я такой думаю: если есть в жизни счастье, то это оно. Я почувствовал в Лёне, что он говорит и делает так, как я, наверное, мог бы, если бы мне хватило таланта. Подозреваю, что он тоже почувствовал во мне человека по духу родственного. Поэтому он меня пестовал. Вот другого слова не подберешь. Парфенов пестовал людей. Не одного меня. Ему хватало времени, чтобы после эфира звонить абсолютно всем своим репортерам, и в итоге все думали, что они главные люди в программе «Намедни».
– Что России тогда было интересно знать об Америке?
– Все, что происходило в Америке – все было важно. Первые пару лет, что я работал в «Намедни», было однозначно так. Все, что было в США хоть сколько-нибудь важным, появлялось в эфире. Потом на глазах это стало меняться. Сначала стали пропускать какие-то важные истории для США. Потом эти истории стали заменяться историями про русское присутствие в США. Где-то обязательно должно было быть что-то русское. Следующий этап – это вытеснение и этих сюжетов тоже. На их месте появились сюжеты о том, как Россия покоряет Америку. Сюжеты о том, как Россия присутствует в Америке, и она в самом центре. И это было не про ту Россию, которая переехала в Америку. А про Россию, которая оттуда, из Москвы, покоряет Америку, и как перед ней все стелются. В какой-то момент я обнаружил, что все мои сюжеты можно условно свести к двум вещам: либо они про то, как «Лукойл» открывает бензоколонку в Америке, либо про то, как какой-то прикольный чудик-абориген прикольно прикидывается мертвым. Все сюжеты про Америку стали такими. Другие новости про Америку пропали. Будто Америка состоит из вот таких придурков, ничего важного не происходит, а все просто сходят с ума. Мне стало неловко.
– Из тебя стали делать Михаила Задорнова.
– Надеюсь, что я в него не превращался.
– В том смысле, что тебя стали вынуждать рассказывать об американцах как о нации фриков.
– Мне так стало казаться, да. Мне стало казаться, что я становлюсь рупором. И мне приходилось заниматься насмешкой и стебом. Когда стеб оправдан, уравновешен и взаимен – это возможно. Но когда я превращаюсь в человека, который только стебется, а больше ничего серьезного не делает, то это не очень хорошо. Я так не хотел. Я живу в этой стране и не считаю ее страной фриков. Тут много можно найти плохого, но это страна, в которой есть и очень много хорошего.
– И это стало причиной того, что в 2006 году ты с НТВ уволился и с телевидением завязал?
– Да, я ушел совершенно самостоятельно и сознательно.
– Чем ты занялся после ухода с НТВ? Тебе же пришлось чем-то заняться, жизнь в Нью-Йорке, подозреваю, не дешевая.
– Зарплата, которую я получал на НТВ, была очень неплохая. Опять же, благодаря Парфенову, который ее просто для меня выбил. Плюс у меня были возможности путешествовать, ездить по стране, встречаться с интересными людьми. К такой жизни очень быстро привыкаешь. Это интересно, ты живешь не как все, ты живешь бурно. Поэтому решение об уходе с НТВ было не очень-то простым. С другой стороны, я понимал, что зависимость от денег и приятностей, «печенек», как это принято теперь говорить, – это тоже не совсем правильно. Поэтому я ушел. У меня были попытки зарабатывать переводами. Я с «Новой газетой» пытался активно сотрудничать. В «Эсквайр» писал. Потом мне казалось, что все-таки у меня есть какое-то имя. Здравый смысл подсказывал, что какую-то профессиональную репутацию я себе создал. И теоретически, вообще-то, какую-то работу я в этой области найти себе должен был. Но все, что я находил, мне катастрофически не подходило.
– Тебе предлагали какие-то телеканалы российские работать для них из США? Ведь надо быть теленачальником-идиотом восьмидесятого уровня, чтобы не попробовать тебя завербовать.
– Нет, практически не было предложений от телеканалов. Мне предложили работать на Russia Today и предложили очень хорошую зарплату, но тут у меня никаких сомнений не возникло даже. Я не знаю, какие они должны были бы предложить деньги, чтобы я на них работал. Никакие! Мне было ясно, что на них я работать не буду.
– Ты общаешься с сотрудниками российского телевидения, которые работают в США?
– Да.
– Согласись, в условиях почти официально признанной новой холодной войны работать на как бы вражеской территории – это, я думаю, ужасно сложная задача. Потому что вражеская территория-то на самом деле привлекательная страна, в которой телевизионщикам с российскими паспортами хотелось бы, по меньшей мере, выучить собственных детей, а еще лучше – их там оставить навсегда.
– С этим я поспорить никак не могу.
– Как с этим раздвоением можно жить?
– Кто как может, так и живет. Ребята, которые работают от НТВ в Нью-Йорке сейчас, пытаются находить возможности доносить любыми способами правдивые вещи. Во всяком случае, корреспондент Леша Веселовский (собкор НТВ в Нью-Йорке) делает все, что от него зависит, чтобы показать страну такой, какой она является.
– Когда телевидение из твоей жизни исчезло, ты заполнил это место литературой, стал профессионально заниматься переводами?
– Я предпринимал попытки переводить давно, когда еще жил в Бостоне. В частности, я сто лет назад перевел статью из New Yorker про Веру Набокову, которая называлась Mr. and Mrs. Genius. Это была первая большая публикация, посвященная Вере Набоковой. Самое лучшее в этом переводе было название. Потому что я перевел не как «Мистер и Миссис Гений», что, в общем, напрашивается. Я перевел – «Гений и его миссис». Что, по-моему, гораздо более литературно и приятно для глаза и для слуха по-русски. Но перевод этот был абсолютно никудышный, потому что кроме названия я еще и всю статью за автора переписал. Показал этот перевод знакомой профессиональной переводчице, она начала читать и говорит: «Но это же не перевод. Если ты хочешь сам писать, то, пожалуйста, пиши. Перевод – это совсем другое искусство».
Она меня обидела страшно: я-то считал, что улучшил материал. И я из чистого упрямства перевел статью второй раз, калькировано, но с задачей, чтобы это читалось как русский текст. Ведь в переводе главная задача – чтобы он не звучал как перевод. И я этого добился. Но проблема заключалась в том, что этот перевод никому на фиг не нужен был. Я понял, что переводы должны еще другие люди хотеть. И через некоторое время я перевел тогда страшно скандальную пьесу Ив Энцлер «Монологи вагины».
– Да, тогда много вокруг этой пьесы шумели, я помню.
– Задача у меня тогда была не скандальная, а чисто лингвистическая. Мне нужно было сделать так, чтобы это можно было произносить по-русски. Потому что тогда любое русское слово, которое ты ни возьмешь (обозначающее слово «вагина», включая само слово «вагина»), было непроизносимо в приличном обществе.
– В следующий раз (после тебя) про вагину вслух так много будут говорить только однажды – после панк-молебна Pussy Riot.
– Лингвистическую задачу я решил. Мне очень хотелось перевести на русский то, что перевести очень трудно. Еще я хотел решить материальную задачу, потому что знал, что автор этой пьесы заработала миллионы. Но эту задачу я не решил.
– И сколько авторов ты с тех пор перевел?
– Много. Честно говоря, не знаю сколько. Дюжины две я перевел. Но из крупных – это два романа Джонатана Сафрана Фоера. Роман Брета Истона Эллиса. Еще я перевел сборник клевых рассказов Иэна Макьюэна, который просто уничтожен чудовищным изданием в России. Я однажды встречался с Макьюэном, сказал ему, что я его перевел на русский язык. Он заинтересовался и попросил показать ему, как выглядит его книга в России. Я ему показал, а он схватился за голову и закричал: Аааааа! Guys-guys, come here, look at this! Oh my God! What is this? Я покрылся красными пятнами от ужаса и стал заверять, что перевод не такой ужасный, как обложка. А из последнего – я перевел «Синие ночи» Джоан Дидион.
– Ты сказал, что материальных задач переводами не решил. Чем же ты еще занимаешься? Как у вас говорят, what do you do for a living?
– Некоторое время преподавал, а теперь работаю в колледже, он называется Hunter. Он входит в систему CUNY – City University of New York. Это огромный государственный университет с хорошей репутацией. Я работаю в программе, которая поддерживает одаренных детей, вышедших из школы с высокими показателями. Дочь моих близких знакомых остроумно назвает нас «бюджетным отделением».
– Значит с балбесами ты дел не имеешь. Прекрасно. Вот скажи, одаренные студенты каким-то образом проявляют интерес к России? Узнавая, что ты из России, какие они тебе вопросы про это задают? И задают ли их вообще?
– Даже не возникает таких разговоров у нас. Россия – это вообще не тема. Ничего они не знают про Россию, мягко говоря.
– О России говорят на улицах, на автомойке, в кафе, по телевизору?
– В Нью-Йорке я ничего такого не слышу.
– Россия – это враг для американцев в интерпретациях самих американцев?
– Опять же, в Нью-Йорке, совершенно однозначно я тебе могу сказать, Россия как враг не воспринимается. Да и большого внимания на себя не перетягивает.
– Черт возьми, а мы-то тут искренне надеемся, что вы ни о чем другом и думать не можете. Только о России. Потому что мы-то все время разговариваем о вас.
– А здесь как-то, ты знаешь, много других тем.
– Каких? Сирия?
– Да не особо…
– «Исламское государство»? Люди пугаются этим словосочетанием? Что вы сейчас обсуждаете страстно?
– Я не могу обобщать. Я знаю, что есть люди, которые очень внимательно следят за тем, что происходит с Сирией, «Исламским государством», знают все про политику Обамы в Израиле. Но вот мои студенты про это вообще не разговаривают.
– Неужели нет никаких тем, которые всех как-то объединяют в обсуждении? Вот, например, легализация однополых браков в США не вызвала бурной дискуссии у тебя с соседями?
– Таких тем много. Они одновременно объединяют людей и разъединяют. Это очень зависит от того, где человек вырос, что он в себя впитал. Люди здесь вырастают в разной среде, а потом все эти люди перемешиваются, и в их мозгах что-то встает на место. В их мозгах! И само встает! Не так, что им вдолбили и объяснили, что это хорошо, а это плохо. Это то, что мне здесь больше всего нравится. Здесь дается возможность человеку найти себя, стать собой в очень раннем возрасте. Однополые браки – это тоже следствие идеи свободы, доведенной до крайней точки: ты свободный человек и свободен распоряжаться своим телом и страстями в том числе.
– Смертная казнь для террориста Царнаева объединила людей в Штатах? Или разъединила? У нас в фейсбуке мы про это пыхтели и ругались.
– Вот если бы его не приговорили к смертной казни, то волнений, протестов и криков здесь было бы гораздо больше. Во-первых, слишком это преступление было на глазах и очевидно. Во-вторых, при всей симпатичной внешности Царнаева (что, безусловно, работало на руку адвокатам), включилась в суде юриспруденция в высшем ее понимании. Работали не эмоции, а факты и законы. В-третьих, среди тех, кого знаю я, не было ни одного человека, который бы сказал, что не нужна в данном случае смертная казнь. Кроме тебя.
– Как же христианская мораль? Как же религиозное сознание, которое вроде бы распространено в Штатах?
– Это отдельная тема. Христианская мораль и религиозность, безусловно, имеют здесь место. И это, безусловно, будет очень сильно педалироваться в процессе апелляции. Не исключено, что этот приговор будет изменен.
– Ты знаешь, кто будет следующим президентом Америки? Какие расклады?
– Нет, не знаю.
– Это будет республиканец? Демократ? Хотя бы это вы там знаете?
– Очень трудно сказать. У республиканцев нет сильного кандидата пока. У демократов единственный кандидат – это Хиллари, которая вызывает одержимое неприятие у правых. Все пока совсем непонятно.
– Вот! Зато у нас тут очень хорошо все понятно, и мы знаем, кто у нас будет следующим президентом.
– Стабильность. Молодцы. Все хорошо.
– Ты стал американцем? Растворился в своем Манхэттене?
– До определенной степени – безусловно. Хотя мне трудно судить. Я вижу в себе изменения. Некоторые изменения мне нравятся, а некоторые нет. Что-то делает меня более похожим на американца. А что-то совсем нет. Когда я жил в Москве, то все равно не был типичным московским человеком. Я в Москве мог сойти за американца. Когда я еще только думал о том, что можно уехать, когда мне было 18 лет, то встречался с разными группами американцев в Москве. Мне всегда говорили, что я бы прекрасно вписался в американскую жизнь. Для меня не было большей похвалы.
– Бываешь в Москве?
– Бываю.
– Узнаешь город, когда приезжаешь?
– С большим трудом.
– Как инопланетянин высаживаешься тут?
– Приблизительно. Я знаю, где я нахожусь, вспоминаю пути-дороги.
– А щемит в груди?
– Перестало. Поначалу, когда я возвращался, мне казалось, что это все мое родное, а я среди этого родного чужой. А потом я понял, что нет, все это уже не мое. Ничего у меня не щемит. Потом, знаешь, мне кажется, что политика российского государства сознательно или бессознательно на протяжении очень большого времени заключалась в том, чтобы вытеснять с насиженных мест людей, которые хоть что-то могли бы этому государству дать. Разрушать социумы. Я не говорю, что я являюсь человеком, который мог бы что-то дать. Хотя, может и мог бы что-то дать. Я не говорю сейчас конкретно о себе. Я говорю о тенденции. С 17-го года так. Только организовывалась какая-то «элита», дворяне-интеллигенция вытеснялась. Ладно. Заняли их квартиры, обосновались, зажили, создали советскую интеллигенцию. Но как только и эти люди что-то начали делать свободно, так тут же появляется новая масса, которая все ростки уничтожает и приходит на их место. И вот эта масса занимает квартиры, рассаживается, пользуется заработанными не ими благами, но и их под нож потом пускают. И так бесконечно. Замкнутый круг.
– Ты следишь за российской повесткой дня? Просыпаешься и лезешь на русские новостные сайты?
– Я же сижу в Facebook. Неизбежно все попадает на глаза. Я в курсе последних новостей, конечно.
– Переживаешь? Расстраиваешься? Смеешься?
– Я на такие темы смеяться не умею. Мне очень горько. И одновременно тут есть очень еврейская ужасная штука: «Ну вот мама же мне говорила, она-то знала, что так будет!» Вот эта вещь во мне сидит. Поэтому, возвращаясь к началу нашего разговора, я повторюсь: когда я уезжал, я не верил, что перемены начала 90-х годов – это что-то очень серьезное. Просто дали чуть-чуть воздуха, а потом его забрали. Вот и всё. Как в 60-е.
– Ты когда-нибудь думал вернуться в Россию жить? Допускаешь такую мысль?
– Одно время я такую мысль допускал. Сейчас я не представляю себе ситуацию, при которой я мог бы жить в России. В той России, какой она сейчас является. Мне неуютно в России. Мне там не очень комфортно. Мне в какой-то степени там даже стыдно. В России ситуация ставит тебя перед выбором: либо ты пахан на коне, а тебе руки целуют и значит тебя уважают; либо ты ничтожество, о которое вытирают ноги. Среднего нет! Зачем так жить? А здесь я являюсь тем, кем я являюсь, мне за это не стыдно. Мне не стыдно за то, что я не зарабатываю миллиарды, мне не стыдно за то, что я не бомжую. Здесь у всех равные возможности. Мы все на одном поле. В России у меня таких шансов нет. В России я бы чувствовал себя либо дерьмом с деньгами. Либо дерьмом без денег. А я так не хочу.
Роман Супер
Источник: svoboda.org