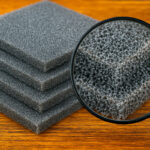На фоне роста государственных расходов на военные нужды, Крым и строительство космодрома Восточный, бюджет здравоохранения не увеличивается. В Государственной думе обсуждается законопроект, который может де-факто лишить медицинские учреждения возможности закупать лекарства импортного производства. При этом депутаты призывают российских онкологических больных лечиться на родине.
Радио Свобода встретилось с главным детским онкологом Минздрава России, заместителем директора крупнейшего в России детского онкоцентра имени Блохина на Каширском шоссе в Москве, Владимиром Поляковым, и расспросило его о стоимости спасения жизни ребенка, блате, отношении к благотворительным фондам, Иосифе Кобзоне и реальных перспективах импортозамещения.
– Правда ли, что детские онкологические заболевания почти всегда полностью излечимы?
– К сожалению, не всегда и не полностью. С развитием методов полиохимиотерапии, с появлением новых препаратов, с развитием хирургии и лучевой терапии мы добиваемся выздоровления 80 процентов детей, это процент от общего числа. Но если смотреть по разным заболеваниям, где-то есть большие успехи, где-то – меньшие. Скажем, опухоли глаза излечиваются в 92-93 процентах случаев. Щитовидная железа, если все сделано как надо, это 98-99 процентов выздоровления. Если взять саркому мягких тканей, то все зависит от стадии, первая стадия – успех на 80 процентов, четвертая стадия – 60 процентов. Если все это сложить, порядка 80 процентов больных мы возвращаем к жизни. Когда я начинал, была обратная пропорция – выздоравливало 20 процентов детей.
– А сколько процентов взрослых выздоравливает?
– Если тоже брать в целом – процентов 60.
– А что считается выздоровлением ребенка? У него риск рецидива или развития другой опухоли такой же, как у ребенка, который вообще не болел?
Больные в обязательном порядке должны попадать туда, где лечением занимаются специалисты
– Нет, выше. Те, кто попадает в 20 процентов, которые умирают, умирают из-за рецидивов, у них появляются метастазы, которые становятся резистентными, и мы с ними ничего сделать не можем. Если сравнивать с популяцией здоровых детей, риск выше еще и от того, что мы применяем химиотерапию, а это в определенной степени тоже канцероген, как и лучевая терапия. Они могут вызвать вторые опухоли. У части больных, примерно у 6-7 процентов детей, которые выздоровели от первой опухоли, в процессе жизни через 6-7-10 лет может развиться вторая опухоль. Поэтому мы идем по пути снижения цитотоксичности, то есть уменьшения дозировок, и особенно по пути уменьшения дозы лучевой терапии.
– Но все же дети выздоравливают по-настоящему, это не как когда взрослому больному вырезали половину легкого и говорят – «лет десять, может, и проживете»?
– Ну, у взрослых это тоже не так, как вы описали. Все зависит от того, что, где и как удалили. Если ему что-нибудь удалили случайно, в какой-нибудь хирургической клинике, не понимая специфики онкологии… Это ведь не просто там ногу отрезал и все. Есть особенности биологического развития опухоли, на определенном этапе там уже есть микродиссеминаты, метастазы, в том числе скрытые. Во время той же гастроэктомии, когда удаляют желудок, если это просто хирурги, то они удаляют желудок, да и все. А у нас выполняется широчайшая 3D-диссекция регионарной зоны лимфатических узлов, потому что, если их не убрать, процентов на 40 больше вероятность, что там будет рецидив, метастазы, заболевание будет прогрессировать. Поэтому больные в обязательном порядке должны попадать туда, где лечением занимаются специалисты.
– Вот к вопросу о попадании туда, куда надо. Расскажите, как устроена в России эта система: как ребенок с опухолью из небольшой деревни может оказаться у хорошего специалиста-онколога?
После того, как мы первые этапы лечения провели, мы можем ребенка отправить на долечивание обратно
– Сейчас есть маршрутизация пациентов, трехуровневое оказание медицинской помощи. Первый – это когда больной обращается за помощью у себя в населенном пункте, его направляют в районную больничку, там обследуют, если есть подозрение на злокачественное образование, отправляют в областной центр, а в каждом областном центре есть детское онкологическое отделение. Там уже проводится углубленное исследование, включая биопсию, и если заболевание обнаруживается в таком варианте или на такой стадии, что на уровне этого центра его способны лечить, то пациент может оставаться и лечиться там, хотя обязательно должна быть верификация, перепроверка гистологического диагноза, потому что часто бывают ошибки морфологического плана.
Если родители в курсе, что есть наш онкологический центр, они могут «взять ноги в руки» и приехать прямо сюда
А вот если процесс запущенный, сложная локализация, тяжелый ребенок, он направляется в центр более высокого уровня, это федеральные центры, клиники московские, клиники в Питере, где есть институты, лучшие специалисты. К нам в центр приезжают совсем тяжелые, самые сложные категории больных. Но после того, как мы первые этапы лечения провели, мы можем ребенка отправить на долечивание обратно, там тоже умеют проводить нормальные, простые курсы химиотерапии.
– Попасть к вам в центр просто?
– Проще не бывает. И по направлению, и самотеком. Если родители в курсе, что есть наш онкологический центр, они могут «взять ноги в руки» и приехать прямо сюда. Мы никому вообще не отказываем, берем хоть с улицы. Если есть подозрение на опухоль, обследуем и либо выдаем рекомендации лечения по месту жительства, если это простой случай, либо, если это что-то более серьезное, забираем к себе.
– То есть вы утверждаете, что если какой-то родитель, у ребенка которого подозрение на тяжелую опухоль, прочитав это ваше интервью, сядет в поезд и придет сюда в Москву, на Каширское шоссе, то его примут и положат на лечение?
В отделении есть возможность поставить раскладушку при постели ребенка, но, конечно, это все равно дополнительные расходы
– Его обследуют здесь в поликлинике. Не положат, нет, потому что у нас нет свободных мест. Даже те, кто приезжает с направлениями, с подтвержденным диагнозом, все равно проходят проверку диагноза, дополнительные исследования, несколько дней обследуются в поликлинике в амбулаторных условиях. А после подтверждения диагноза… либо положим, либо устроим куда-то. Если у нас нет возможности, у нас есть еще несколько отделений, с которыми мы можем связаться, отправить больного туда.
– Но все, разумеется, хотят лечиться именно у вас, потому что у вас лучшие врачи.
– Ну конечно.
– У вас правда лучшие врачи?
– Да, лучшие, мы же федеральный онкоцентр.
– Когда речь идет о спасении своего ребенка, родители сделают все возможное, чтобы попасть обязательно к самому лучшему специалисту.
Если звонят из правительства, что есть такой ребенок, его надо положить и так далее, приходится как-то расширяться и выполнять
– Да, все стараются попасть сюда. Очень сложно бывает отбиться, хотя не всем показана госпитализация в наш центр. Здесь мы берем самые сложные случаи, если случай достаточно простой, который можно полечить в Орле, в Воронеже, в Ростове и так далее, то отправляем людей по месту жительства. Им там и находиться проще. Здесь тяжело для родителей, здесь столица, здесь тяжело жить. Хотя они всегда при ребенке, во всяком случае один из родителей, в отделении есть возможность поставить раскладушку при постели ребенка, но, конечно, это все равно дополнительные расходы. Дома лечиться проще. Но, повторю, кого можно отправить домой – мы отправляем. Кого нельзя – лечим здесь.
– Даже если у вас нет мест?
– Ну, стараемся лечить здесь.
– Не секрет, что в российской медицине существует понятие блата..
– Блат есть везде, и в правительстве, и в руководящих органах, и в контролирующих органах. Ну, как блат.. Мы ко всем относимся одинаково. Но, допустим, если звонят из правительства, что есть такой ребенок, его надо положить и так далее, приходится как-то расширяться и выполнять. Это же указание сверху. Ну, это вот такой вот блат. А так… Нет, все идут по плану. Мы справляемся, у нас есть возможность какого-то лавирования. У нас есть дети, которые, допустим, из Москвы. Мы ему проводим терапию, и на определенном этапе он себя чувствует неплохо, у него период восстановления. Он может лежать здесь, но мы можем его и отдать на пару дней, на три дня, кого-то положить на это время. Много всяких вариантов. А иногда бывает, что привозят по скорой помощи больного, которого некуда даже отправить. Все равно мы его устраиваем. Подставляем какую-нибудь кровать.
– Очевидно, ваши возможности все же упираются в финансирование. Вам хватает квот?
Даже эти полтора миллиона – очень условная сумма. Лечение в реальности, как правило, стоит больше
– Квот не хватает. Например, на трансплантацию костного мозга, которой мы занимаемся, нам в этом году выделили всего 10 квот. Больные приезжают, а их ведь специально к этому готовят, проводится высокодозная терапия. Мы должны взять их на трансплантацию, а квот нет. Квота на трансплантацию костного мозга – это более полутора миллионов рублей. Государство должно обеспечить медикаменты, поддерживающую терапию и много чего еще. Чтобы все это было, за ребенком должны прийти полтора миллиона рублей. И если они не приходят, мы не можем ничего сделать. И даже эти полтора миллиона – очень условная сумма. Лечение в реальности, как правило, стоит больше. То же самое с обычными квотами, обычная квота на онкологического больного – 150 тысяч рублей. Ну, некоторым действительно хватает даже 100-120 тысяч. А у многих начинаются осложнения, сепсис, грибковые болезни, квота съедается в течение двух недель. Если при выписке ребенка по факту посчитать, это выливается не в 150 тысяч, а в 650 или в миллион. Квота, конечно, очень низкая.
– Если квоты не хватило, что происходит дальше?
– Новую заказываем. Квота закончилась – мы ребенка формально должны выписать, что мы и делаем. Но за это время заказывается и выделяется следующая квота.
– То есть в действительности нужно число квот на десять умножать.
– Да. За одну госпитализацию мы можем провести один блок химиотерапии. Неделю больному вводятся препараты, а потом в течение двух недель он начинает пикировать, ему плохо, у него падают показатели крови. В это время мы его восстанавливаем – капельницы, поддерживающая терапия, питание и так далее. Блок заканчивается, квота заканчивается, мы ребенка выписываем, но тут же запрашиваем новую квоту. Он снова госпитализируется, за ним приходят еще 150 тысяч. И так, в зависимости от заболевания, проводится от 8 до 16 курсов химиотерапии, плюс есть лучевая терапия, плюс на каком-то этапе высокотехнологичное хирургическое лечение. Это все очень проблематично.
– В последние два года у государства появились новые приоритетные направления расходов, цены на нефть падают. Вы на себе это ощущаете?
Для этого десятилетия потребуются, чтобы производить такие препараты. А этот препарат, как стоил 30 евро, то так и остался
– Конечно, это, безусловно, сказалось. Бюджет на медицину практически остался прежним, на последней встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, которую проводил «Национальный фронт», я на ней был тоже, Владимир Владимирович сказал, что придется, может быть, немножко ужать. Потом мои коллеги выступали, Рошаль в частности, просили: Владимир Владимирович, нам не ужать, нам добавить надо. Инфляция, девальвация, мы закупаем медикаменты зарубежного ряда, потому что импортозамещение-то объявлено, но оно не скоро будет, это же не так в один день делается, сделать заводы, поднять фармацию. Это все не решается в год, два, три, для этого десятилетия потребуются, чтобы производить такие препараты. А этот препарат, как стоил 30 евро, то так и остался, а для нас по бюджету цены изменились. А бюджет у нас остался такой же, на медицину в среднем выделяется 3,9 процента от ВВП. Естественно, мы страдаем и будем страдать еще больше.
– Можно сказать, что каждый недовыделенный миллион рублей в детской онкологии – это потенциальная неспасенная жизнь ребенка?
Я гражданин, я россиянин, патриот, я прекрасно понимаю, что это – стратегический объект, и естественно, что мы его должны поднимать
– Наверное, метафорически можно так сказать. Но у нас есть другие возможности, которые мы подключаем, чтобы такого не произошло. Наша самая главная задача – чтобы, несмотря на все эти пакости, которые происходят в стране, больные не пострадали. Поэтому мы обращаемся к нашим спонсорам, к благотворительным фондам. Колоссальная работа ведется в этом направлении. Нам помогают. Когда требуется что-то закупить, какие-то препараты, которых не хватает, мы обращаемся к фондам, и они нас выручают. Еще не было случая, чтобы мы не нашли способа купить необходимые препараты, которые не закупило государство.
– Когда вы слышите в новостях, что на строительство моста через Керченский пролив выделяют сотни миллиардов рублей, а это сотни тысяч потенциально вылеченных детей, у вас, детского онколога, не ёкает сердце?
– Ёкает, конечно, но с другой стороны, я гражданин, я россиянин, патриот, я прекрасно понимаю, что это – стратегический объект, и естественно, что мы его должны поднимать. У меня ёкает сердце и когда взрываются космические корабли, которые тоже стоят миллиарды, и эти миллиарды уходят в прах, в песок. На самом деле, когда Татьяна Алексеевна Голикова была министром здравоохранения, я к ней лично обращался с просьбой рассмотреть в правительстве идею о выделении отдельного транша для детской онкологии. У нас в стране в год заболевает порядка 3,5-4 тысяч новых детей. Плюс те, которые лечились до этого, продолжают получать терапию, но все равно это не такие большие деньги, их нельзя сравнить с каким-нибудь крупномасштабным строительством космодрома или моста. Но, к сожалению, отношение такое… В западных странах в бюджет медицины из ВВП выделяется от 7 до 15 процентов, да там еще и ВВП другой, а у нас 3,8-3,9 процента. Понятно, что этого мало.
– Правильно ли я вас понял, что есть некоторая сумма, ежегодное выделение которой покрыло бы все потребности российской детской онкологии?
Если даже этот закон будет принят, он вряд ли будет реально исполняться. Что касается онкологии, импортозамещение здесь будет не скоро
– Могла бы быть, да. Сейчас есть такая идея, министерство здравоохранения дало задание всем главным специалистам, ведущим институтам, федеральным клиникам просчитать стандарты оказания медицинской помощи. Там прописано все равно все по минимуму, ну пусть хотя бы так. Когда посчитаем, можно будет понять, сколько требуется реально на лечение такого количества больных во взрослой и детской онкологии, которое у нас есть. Но детская, как я уже сказал, это всего 2 процента от всех онкобольных. Ну что такое два процента? Я поэтому и предлагал – давайте поставим вопрос на правительстве о выделении специального транша.
– А о какой примерно сумме идет речь?
– Не скажу, я не финансист. Это сложный расчет, мы считали целый год, сколько стоит ампула дактиномицина, сколько раз ее нужно ввести, как учесть дозы для детей разного возраста. Огромная работа. Тем не менее, если это все просчитается и потом эта цифра окажется достаточно реальной, то можно с ней выходить на правительство, как я и хотел это сделать… Но это довольно сложно [будет сделать].
– Про импортозамещение вы уже сказали, что это займет много времени, но давайте поговорим более предметно. Обсуждается законопроект, согласно которому, если в тендере на поставку лекарств участвуют два российских поставщика, то никакие иностранные туда не принимаются. Что вы об этом думаете?
– Ну, это рассматривается, это еще не узаконено. Я думаю, что если даже этот закон будет принят, он вряд ли будет реально исполняться. Что касается онкологии, импортозамещение здесь будет не скоро. Может быть, можно заменить аспирин, анальгин, пенталгин или еще что-нибудь, а такие препараты, как маптера и какие-то цисплатин и так далее, это мы не сможем скоро поднять.
– Детская онкология отдельно, а импортозамещение отдельно?
Мы сначала контрабандой его закупали где-то, а потом все каналы закрылись
– Не отдельно, мы вместе, конечно, и то, что можно заменить, мы принимаем, здесь ничего не поделаешь. И дженерики появляются все больше и больше. Сделали мы, например, тот же дактиномицин, это была вынужденная мера, потому что компания-производитель перестала его поставлять в Россию. Количество этого препарата, который должен поставляться для детской онкологии сюда, было мизерным для компании, для них годовая лицензия стоила в десятки раз дороже, чем они могли заработать на препарате. И они отказались поставлять этот препарат. Мы сначала контрабандой его закупали где-то, а потом все каналы закрылись, и мы попросили компанию, которая покупала дженерики, купить субстанцию, чтобы сделать препарат у нас. И его сделали, он называется акномит. Мы провели клинические испытания, он оказался не хуже дактиномицина, кроме применения для детей до года. Вот импортозамещение.
– Вы сказали, что иногда справляетесь только благодаря благотворительным фондам. А в начале 2014 года разгорелся скандал по поводу ваших слов о благотворительных фондах – вы тогда сказали, что, отправляя больных лечиться за рубеж, они дискредитируют российских врачей. Потом вы утверждали, что ваши слова были выдраны из контекста. Что вы на самом деле имели в виду? Как вы все-таки относитесь к благотворительным фондам?
Но когда ребенок признается инкурабельным, то собирать деньги, чтобы его отправить куда-то в Америку, в Израиль, в Германию, это, я считаю, просто преступление
– Да, тогда из моего интервью в РИА Новости была выдрана одна фраза. Я говорил, что фонды иногда работают недобросовестно. Ну, это не секрет. Потом начались разные разговоры, были грязные наезды на меня, что я чиновник. А я вообще не чиновник, главный детский онколог – это у меня общественная нагрузка, от которой я схожу с ума. На самом деле, я клиницист, я оперирую, консультирую, преподаю, я очень далек от всех этих чиновничьих дел. Но обидно за то, что иногда бывают такие вещи: есть больной, который лечился, для которого сделано все, что только можно сделать. И что невозможно – тоже сделано. Поймите, мы не откажемся от больного до самого последнего его вздоха. Если этот вздох еще можно поддержать, мы переводим больного в реанимацию и поддерживаем сколько можем.
Но когда ребенок признается инкурабельным (неизлечимо больным. – РС), а инкурабельным он признается только в последние моменты жизни, то собирать деньги, чтобы его отправить куда-то в Америку, в Израиль, в Германию, это, я считаю, просто преступление, это недостойное дело. Это моя жесткая позиция. Люди собирают деньги, они думают, что они помогут, но мы знаем, что этому человеку уже не помочь ничем. Мы собираем консилиум, это светлейшие умы, и решаем, можно что-то еще сделать или уже нет. Да, у нас в России нет пересадки печени. Ради Бога, я подписываю каждый день документы – поезжайте в Бельгию, делайте пересадку печени. У нас до определенной поры не было аллогенной трансплантации, я подписывал– ради Бога, езжайте. Если люди хотят лечиться за рубежом и им там смогут помочь –пожалуйста. Если вам хочется лечиться в Германии – лечитесь в Германии. У меня такие больные были, они приходили, говорили – «спасибо, у вас хорошо, но у нас есть возможность, есть контакты, мы хотим в Германию». Ну ради Бога! Но некоторые фонды отправляют инкурабельных пациентов.
– А у кого есть право признать больного инкурабельным?
– Это коллективное решение консилиума.
– Консилиума, собранного именно в вашем центре, на самом высоком уровне?
Мои коллеги – энтузиасты, нас, детских онкологов, вообще мало. Это неблагодарный и тяжелейший труд
– Ну почему, в регионах есть такие же специалисты, там тоже собираются консилиумы. Но это никогда не мнение одного человека, это всегда должно быть единогласное решение коллектива врачей.
– Вы готовы поручиться, что на региональном уровне при принятии таких решений не бывает ошибок? Или ситуаций, когда просто нет мест в больнице и медикаментов, и врачи понимают, что ничем помочь не могут?
– Поручиться за квалификацию каждого врача я безусловно не могу, но [признание инкурабельным] абсолютно точно не может произойти из-за того, что нет мест или лекарств. Мои коллеги – энтузиасты, нас, детских онкологов, вообще мало. Это неблагодарный и тяжелейший труд, это постоянные негативные эмоции, это трагедии, это беседы с родителями. Ты бессилен помочь, и вынужден смотреть в глаза плачущей маме и объяснять, что ничего не можешь сделать. Мы – каста. Проще пойти в детскую хирургию, отоларингологию, офтальмологию, туда, где будешь излечивать детей. Там благодарная работа, а у нас – не очень-то, к нам людей не заманишь. В детскую онкологию очень мало идет людей, особенно в последние годы. Народ стал меркантильный, смотрят, вынюхивают, где лучше. Мы раньше об этом вообще не думали, мы думали, что это очень интересно с точки зрения науки и работы. Интересно, пусть и тяжело. У меня есть еще несколько специальностей, я мог бы все это бросить и пойти спокойно пойти работать в любую клинику отоларингологом.
– Возвращаясь к фондам: есть фонды недобросовестные, это известно. А вы, как главные детский онколог, ведете какой-то реестр хороших благотворительных фондов и плохих?
– Может быть, и нужно это делать, но я, конечно, этим не занимаюсь. Мы обращаемся в наши проверенные фонды, и кто там чего делает, это на их совести. У нас есть фонды, с которыми мы давно работаем, которые очень ответственно к этому относятся, я знаю, что они чистые, хорошие и правильные, они помогают всегда, находят и лекарства, если надо кого-то отправить за рубеж, они отправляют за рубеж, если это надо устроить. Вот у нас нет протонно-лучевой терапии, я сам эти центры нашел в Чехии, в Германии, связывался с ними, и ребенка из нашей клиники мы отправили лечиться в Германию. Сами направили. Потому что я знаю, что у нас этого нет и можно было бы попробовать помочь человеку, если мы не можем что-то сделать.
Что касается хирургии – я объездил весь мир и скажу, что российские хирурги лучшие!
Точно так же – трансплантация костного мозга или еще с какими-то делами. Для того, чтобы туда направлять, в принципе, должен быть квалифицированный консилиум проведен. И правильные фонды обращаются: к нам поступило заявление отправить ребенка туда-то… И они не бездумно к этому относятся. Не на слезе, не на всем этом деле, когда говорят, «надо туда, в Израиль, там лучшие врачи, русские врачи тут ничего не умеют делать…» А такого больного, которого можно здесь вылечить, мы вылечим. Протоколы лечения везде одинаковые, ну, кроме некоторых вещей, о которых я сказал, чего у нас нет. Все остальное делается абсолютно в том же режиме, в тех же дозировках – что в Германии, что в России. Препараты одни и те же. А что касается хирургии, я объездил весь мир и скажу, что российские хирурги лучшие!
– Но люди, которые хотят лечиться за границей, едут не только ради врачей, они боятся, что в России все упрется в важные мелочи. Что в нужный момент, например, не окажется нужного лекарства.
Если бы у нас было аналогичное финансирование и на это финансирование штатное расписание соответствующее, это было бы здорово
– Это да, конечно, вопрос насущный. И действительно так бывает. Это связано именно с недостатком финансирования. Это раз. И еще один момент, почему люди хотят ехать, – там более комфортные условия. Там нагрузка на врача другая, там нагрузка на медицинскую сестру другая. Если там, допустим, на медсестру пять больных, то у нас их в пять раз больше, соответственно, уход, внимание, качество оказания медицинской помощи из-за этого страдает, это не секрет. И мы это признаем, безусловно. Но это опять же исключительно из-за финансирования. Если бы у нас было аналогичное финансирование и на это финансирование штатное расписание соответствующее, это было бы здорово. Ну, что здесь говорить… Поэтому, конечно, у кого есть деньги, предпочитают выезжать. У кого нет, те стараются найти какие-то фонды, обращаются в Министерство здравоохранения. Там есть комиссия специальная для отправки за рубеж, они проходят определенную процедуру, опять же верификации. Нам присылают документы, потому что мы федеральный центр, и мы их рассматриваем. Вот у меня целая пачка таких документов: да, согласны. После этого меня или моих специалистов вызывают в Минздрав и спрашивают, какие показания к тому, чтобы отправить. И государство дает, по-моему, 150 тысяч долларов на то, чтобы человека лечить за границей.
– В случае, если здесь невозможно лечить?
– Да, если нет каких-то методов лечения либо исчерпаны те, которые у нас есть, но есть что-то еще, что мы не можем проводить.
Он инкурабельный, ему продлили жизнь, но ему могли продлить жизнь и здесь у нас в хосписе
– Тогда откуда берутся эти объявления в интернете: «собираем для Машеньки деньги на лечение в Германии», если вылечить можно почти все здесь, а если что нельзя, государство даст 150 тысяч долларов?
– Да вообще много смешных объявлений. Могут человеку провести в Израиле какую-то экспериментальную терапию, какие-то антитела, вакцины, еще что-нибудь, там разработка идет, и больной в роли подопытного. Да, он там не умер сегодня, но умер через полтора месяца. Он инкурабельный, ему продлили жизнь, но ему могли продлить жизнь и здесь у нас в хосписе.
– То есть вы считаете, что человек с инкурабельным диагнозом должен спокойно умирать в России и не цепляться за любой шанс, даже за какой-то экспериментальный метод?
– Конечно, и я же не ругаю за это людей, понятное дело. И наверное, если бы это произошло со мной… Ну, со мной вряд ли, потому что я слишком хорошо все это знаю и понимаю. У меня был мой директор, светлой памяти, Лев Абрамович Дурнов, и он умирал от рака толстой кишки с метастазами в печень. И когда ему сказали: «Вы человек большой, давайте туда, давайте сюда». Он прекрасно все это дело оценил и ответил: «Я знаю, сколько мне осталось жить, и что бы вы ни делали, мне жить год и 8 месяцев». Через год и 9 месяцев он умер. Вот примерно так и я к этому отношусь. Просто я слишком хорошо это знаю. И когда я что-то говорю, то я в этом уверен.
– Давайте еще раз про объявления, если я вижу в интернете объявление, что какой-нибудь маленькой девочке собирают на лечение какого-то онкологического заболевания, значит ли это, что деньги собираются напрасно?
– Нет, совсем не обязательно. Может быть, просто родители обратились в фонд, ребенок вполне курабельный, но они хотят получить лечение за рубежом, а фонд им хочет в этом плане помочь.
– Но у них при этом есть альтернатива – отдать ребенка на лечение…
– Сюда. Конечно!
– И здесь это будет бесплатно?
– Бесплатно, конечно. И деньги собирать не придется.
– То есть сбор денег – это только на то, чтобы ребенок получил лечение в немножко лучших условиях.
– Да. Если ребенок курабельный, если есть возможность ему помочь. Действительно, часто бывает, что фонд собирает деньги для того, чтобы обеспечить более комфортные условия, как считают родители, более высококачественную медицинскую помощь и так далее. Но на самом деле в большинстве случаев этим детям можно оказать помощь и здесь.
– То есть речь не идет о том, что если сумма не будет собрана…
Слава богу, уже 13 лет Иосифа Давыдовича лечим… Но он мужик, молодец вообще!
– Ему откажут здесь? Нет. Если он действительно подлежит лечению. Если он инкурабельный, мы признаем это. Такие случаи, к сожалению, есть. И здесь уж сбор денег вовсе бессмысленен. Там-то есть смысл собирать деньги, потому что помогут, вылечат этого ребенка, все хорошо будет. А вот когда инкурабельный больной, в этом нет, конечно, смысла.
– А вы видели интервью с Иосифом Кобзоном в аэропорту, когда его спросили, почему он ездил за границу лечиться, и он на это ответил «я не хотел, но меня врачи заставили»?
– Я подробностей не знаю, но мне кажется, что это связано с лечением лучевой терапией, которая у нас только появилась, еще небольшой опыт ее использования. Вполне могли его врачи заставить. Это те самые случаи, когда мы сами чем-то не владеем и направляем больного туда, для того чтобы там, на самом деле, он получил высококачественную терапию. Это какие-то узкие вопросы, не массовые. А так, слава богу, уже 13 лет Иосифа Давыдовича лечим… Но он мужик, молодец вообще!
– Мне сложно назвать его молодцом после того, как он поддержал закон о запрете иностранного усыновления. А вы сами как к этому закону относитесь?
Конечно, было бы лучше, если бы эти дети были разобраны здесь, в России, это было бы оптимально
– Да трудно сказать… Реально я в этом не вижу большого криминала – в таком усыновлении. Это ведь тоже пресса по-своему всегда выставляет, и где там правда, трудно понять – на самом деле такое отношение у приемных родителей к детям или это идет нагнетание всего этого дела. Я считаю, что если обездоленным детям есть возможность помочь таким образом, если таких детей берут на воспитание, это благородно, какой бы национальности этот человек ни был. То, что у нас такое количество детей в детских домах, это беда. И если есть такая помощь… Но если это так, что есть насилие, издевательство и прочие такие дела, безусловно, я категорически против! Но если там они попадают в нормальные семьи, почему нет? У них появляется будущее какое-то и так далее.
– В этом отношении ваша позиция с позицией уважаемого певца, видимо, расходится…
– Я свою точку зрения говорю, а он считает по-своему. Конечно, было бы лучше, если бы эти дети были разобраны здесь, в России, это было бы оптимально. И для того чтобы разобрать их здесь, наверное, надо поднять материальный уровень людей, и психология должна измениться. Я простой пример приведу о психологии. Когда-то давным-давно я был в Америке, на курсах повышения квалификации. И попадал на собрания благотворительных фондов, о которых у нас в ту пору даже не думали и не мечтали. И непонятно это было, как это – свои деньги отдавать непонятно кому… А потом постепенно здесь психология стала меняться, и появились люди, которые сначала частные пожертвования какие-то стали давать, потом они объединились, сделали фонды. Они стали помогать, покупать. Это один из постулатов божественных: заработав себе, десятину отдай обществу. Люди отдают свои кровные. Я вот морально к этому готов. Но я точно совершенно знаю, что не все готовы морально. Но это в положительную сторону меняется, потому что ментальность человека меняется.
Проблемы детской онкологии будут обсуждаться на VI съезде детских онкологов, который пройдет в Москве 1-3 октября 2015 года. На мероприятие приглашены ведущие российские и мировые специалисты.
Сергей Добрынин
Источник: svoboda.org