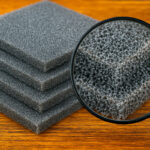На протяжении «нулевых» в современной России действовал нигде не зафиксированный, но вполне реальный договор между властью и гражданами (точнее, настоятельно «предложенный» гражданам властью): «Делайте что угодно, живите как хотите, развлекайтесь, обогащайтесь как умеете, но только не лезьте в политику!» По большому счету это — типично авторитарная программа. Хотя некоторые критики уже тогда клеймили систему, сложившуюся в пост-ельцинской России, как тоталитарную.
В последние годы — особенно после массовых протестов 2011—2012 годов и начала событий на Украине — мы становимся свидетелями и невольными участниками опасного дрейфа российской политической системы в сторону тоталитаризма. Инициативы депутатов и чиновников, соревнующихся в запретительстве, касаются всего подряд — секса, семейных отношений, религии, искусства, школьных учебников, идеологии, прессы, интернета. (Об этом, кстати, в конце 2011-го — начале 2012-го «Новая газета» опубликовала серию статей в рубрике «Страна запретов».) Многие из этих инициатив становятся законами. И начинают регламентировать не только избирательную систему и партийную жизнь, но и различные сферы общественного бытия и сознания, не имеющие прямого отношения к политике. А это уже очевидные признаки тоталитарной системы.
К сожалению, многие подобные властные инициативы и политические действия, а также нарастающая репрессивность режима находят поддержку и у значительной части населения.
Почему это происходит, пытаемся выяснить в беседе с директором Левада-центраЛьвом ГУДКОВЫМ.
— Есть расхожая точка зрения (распространена как на Западе, так и в отечественной либеральной среде), что массовая поддержка российскими гражданами присоединения Крыма и всей нынешней путинской внешней политики, а также одобрение ими любых действий государства по закручиванию гаек внутри страны ввиду «враждебности окружения» — это дело рук российских СМИ, прежде всего федеральных телеканалов, эффективно обработавших сознание наших сограждан. Возникает вопрос: то ли у сограждан так плохо с мозгами, что они поддаются любому пропагандистскому воздействию, то ли главная причина в другом? Личные наблюдения, в том числе и за вашими исследованиями, убеждают меня, что сдвиг в сознании россиян в сторону изоляционизма, поиска врагов и готовности к тоталитарным практикам постепенно происходил задолго до украинских событий. Откуда взялся этот тренд и можно ли объяснить его исключительно воздействием пропаганды?
— Пропаганда действительно очень серьезная, очень умелая и, с точки зрения Кремля, очень эффективная. В плане использования политических технологий она беспрецедентна: таких массированных кампаний и в позднесоветское время не было. Но никакая кампания не может переналадить мозги, поменять знак в сознании. Люди готовы верить в то, что предлагает пропаганда, потому, что пропаганда предлагает им то, что соответствует их картине реальности. Все мотивы, приписываемые Западу и так называемым внутренним врагам (равно как и власти), понятны людям, потому что это их собственные структуры сознания.
— «То, о чем вы догадывались, но стеснялись сказать вслух»?
— Точно. В этом смысле
Путин — лишь персонификация массовых представлений, их среднеарифметическое. Он — воплощение подавленных желаний, недоступных, а потому — вытесняемых моделей поведения. Но он не инициатор этого, он, если хотите, катализатор, активатор. Мне кажется, что ситуация гораздо серьезнее, чем это кажется на первый взгляд.
Первые признаки реакции в общественном сознании стали заметны уже начиная с 1999 года, когда с Борисом Дубиным мы опубликовали статью «Время серых».
— Уже тогда вы это время разглядели?
— Не только мы. Левада писал о нарастании авторитарных ожиданий в обществе и усилении консервативного, реакционного тренда. Но политически эти тенденции начали проявляться примерно с 2002—2003 года — с административной реформы, с преследования независимых бизнес-групп, с подчинения ФСБ финансовых структур и потоков, структур государственного управления.
— Началось все с медиа. Вспомним зачистку НТВ в 2000 году.
— Это правда. Началось с медиа, с цензуры информации во время второй чеченской войны. И пошло-поехало.
— Почему это произошло?
— Да потому, что принципиальная часть институциональной системы, то есть наиболее важные институты, практически не изменилась с советских времен. Еще раз нам было продемонстрировано значение тайной политической полиции, которая, пользуясь своим особым, экстраправовым статусом и действуя в неправовых рамках, — устанавливает контроль над существующими системами, постепенно подчиняя их. Это оказалось несложно, потому что
к власти пришли чекисты, бывшие сотрудники КГБ с их менталитетом, с их пониманием реальности, с их фобиями, а также представлениями об интересах государства. И они медленно и незаметно, но очень последовательно потянули за собой всю идеологию гэкачепистов. Напомню, что еще до путча тогдашний глава КГБ Крючков выступал с предупреждениями, что все намечаемые реформы и все демократическое движение инициированы, спровоцированы и проплачены Западом, Госдепом, что это скрытые агенты — сознательные или несознательные. Эта идеология проникала в деятельность новых российских госструктур и сохранилась до сих пор.
Причем эти советские институциональные структуры не просто восстановились, а соединились опять в систему. То, что распалось в 91-м году, и то, что с переменным успехом пытались разрушить в первой половине 90-х годов, — сегодня в полной мере восстановилось.
— Что конкретно ты имеешь в виду?
— Так называемый тоталитарный синдром, описанный многократно в исследованиях тоталитаризма. Прежде всего это фактически однопартийная система. Потому что пул допущенных к власти партий — это, конечно, не признак многопартийности, а просто разные фракции одной и той же партии, вполне подконтрольные системе. А что такое однопартийная система? Это сращение партии и государства, это установление контроля над всей административной системой и, соответственно — через управление социальными процессами, — над социальной структурой. Это сращение высшей власти с экономическими структурами. При, повторяю, всесилии тайной политической полиции, действующей вне правовых рамок и подчиняющей своему влиянию и суд, и прокуратуру, и другие институты. Процесс над Ходорковским в этом смысле весьма показателен.
— Сюда же относятся, видимо, не только громкие процессы с политической подоплекой, но и прикрываемые силовиками и имитацией правосудия всевозможные поглощения, разорения и рейдерские захваты на экономическом микроуровне.
— И на микро-, и на макроуровне. Потому что эта политика увенчалась созданием гигантских государственных корпораций. Они сочетают в себе государственные и частные признаки, поэтому не контролируются как государственные ведомства. Что дает простор для коррупции, обогащения и для прямого поддержания режима — корпорации становятся его казной, его карманами.
Итак, что мы имеем? Однопартийную систему. Всесильную тайную политическую полицию. Контроль над средствами массовой информации, превращение их в средства пропаганды.
— Ты еще говорил о сращении государства и экономики.
— Разумеется. Причем это не просто подчинение политическим интересам всех финансовых потоков, но и постепенное выдвижение в экономике на первый план политических целей сохранения режима, а не развития экономики.
То есть вопреки национальным интересам установился приоритет политических и геополитических интересов над интересами населения, самого общества и собственно экономики.
Еще пару слов об однопартийной системе. Это не просто механизм поддержки так называемой суверенной электоральной демократии, но и устранение представительства разных групп населения, соответственно, и выражения их интересов, их точки зрения. Однопартийная система — это очень важное условие для создания тотального единомыслия. Конечно, при поддержке пропаганды, заменяющей объективную информацию и дискуссию.
— Конструкция «ЕР плюс допущенные к власти партии-сателлиты» сильно напоминает то, что было в ГДР и в других странах «народной демократии». Сателлиты выполняют функции как бы представительства интересов тех, кого партии власти впрямую представлять неудобно, «очистки» таких неудобных социальных настроений от экстремизма и их включения в общую политику режима. Например, либеральные демократы занимаются некоей санацией национализма, а коммунисты работают с прошлым сознанием, тоже как бы пропущенным через центрифугу и очищенным от левачества.
— Официальные «оппозиционеры» абсорбируют социальные протестные настроения в своих сегментах и нейтрализуют их, делая таким образом управляемыми для Кремля. «Управляемая демократия» превращает выборы в полностью контролируемый административный процесс. При этом подавляется групповое представительство, соответственно, возможность участия людей в политике, ответственность за принимаемые решения и важное для общественного сознания чувство, что «что-то можно сделать»: добиться своих целей, решить конкретные проблемы на федеральном, региональном, местном уровне.
Пресечение таких возможностей создает в массовом сознании дефект, который психологи называются «выученной беспомощностью». Это когда, что бы ты ни делал, все равно ничего не получается. И тогда люди (как и животные, на которых психологи отрабатывали это) просто отказываются от действия.
— В ваших исследованиях достаточно давно прослеживается идея бесполезности действия. Мол, «мы ни на что не влияем»…
— 85% говорят, что… «я не могу ни на что повлиять», «я отвечаю только за свою семью» — и больше ничего. Тем самым разрушается сама ткань общества, ткань общественной солидарности.
И еще один тоталитарный признак. Это — вождь, персонификация всего символически целого. В прежних конструкциях тоталитаризма он наделялся статусом харизматического лидера, обладающего особыми, необычайными личными свойствами. Но мне кажется, что такая фигура — обязательный компонент лишь домедийного, дотелевизионного тоталитаризма. Идея харизматического вождя (пророка, демагога, удачливого генерала) предполагает личное воздействие на массы на митингах, в каких-то публичных выступлениях. В наших условиях при такой интенсивности контроля в медиапространстве, при новых технологиях харизматический эффект может быть создан медийными средствами.
Наш президент — это медийный персонаж, а не государственный деятель, предлагающий новые политические цели, новые горизонты и решения. Это не Черчилль, не Рузвельт, это функция медиа. Во время президентской кампании 2012 года 75% новостного времени занимали сообщения о Путине. Остальным кандидатам достались 25% на всех. Поэтому возникает эффект, который Левада называл «наведенной харизмой».
Это создание образа всемогущего безальтернативного лидера, который, собственно, и должен определять всю политику.
Еще одна очень важная вещь — идеология. До самого последнего времени я думал, что идеологии нет. Как говорится, only business. Но с украинским кризисом, с Евромайданом появляется и формируется вполне связанная, оформленная и практически действующая идеология.
Это идея разделенной нации, которая снимает любые вопросы об институциональной системе — о представительстве, о праве, о международном устройстве, и, напротив, создает искусственную, мифологическую конструкцию, в центре которой тезис о существовании органического целого — тысячелетней России. Это вера в единство по крови или происхождению как в основу общественной солидарности.
Здесь важно не только что говорится, но и что при этом вытесняется. А вытесняется идея многообразия, представительства, прав и ценности отдельного человека или групп населения. И это очень опасно, потому что основа современного общественного устройства — это именно представительство, позволяющее согласовывать и гармонизировать различные общественные интересы.
Мне могут возразить: все исторически известные тоталитарные идеологии проспективные, они обещали тысячелетний рейх, коммунизм и прочие сияющие образы будущего, а эта — нет.
Вообще-то тоталитарные идеологии обычно сочетали светлые перспективы с архаикой. Точнее, предполагали воспроизвести очищенное от недостатков, идеальное прошлое современными средствами и технологиями — будь то расовое превосходство в нацизме или архаическая утопия общины как государственное целое и с новейшими технологиями в коммунизме.
Кроме того, все тоталитарные идеологии включают и фактор, который постоянно мешает реализации утопии, — это враги. Это еврейский заговор, это классовые враги или, как у нас сейчас, — американцы, Запад. Очень важный тезис для всех тоталитарных идеологий — это «гнилая» либеральная демократия, разложение. А противостоит этому здоровое начало, возрождение нации и государства, возвращение к традиционной морали.
— Я, честно говоря, тоже не вижу в нынешней отечественной конструкции привлекательного для толпы проекта и образа будущего. Вижу только архаику — вплоть до явного мракобесия. Нет ли здесь какого-то методологического сбоя? Может, то, что у нас сегодня созревает, вовсе и не тоталитаризм?
— Сбоя нет. Особенность нашего, имитационного или рецидивного, тоталитаризма: нынешний режим не изобретает новые программы, он берет остатки старой и склеивает.
— Такой прихотливый постмодернизм?
— Ну, похоже. Почему я и говорю, что это не продуктивная власть, она пытается рутинизировать последствия краха СССР, эклектически соединяя нужные для себя элементы, но не в состоянии произвести конструкцию или образ будущего, привлекательные прежде всего для молодежи. Там, например, нет идеи социальной мобильности.
— Идея мобильности — это одна из самых мощных движущих сил прежних тоталитарных обществ.
— Именно так. Было обещание карьеры (вполне реалистичное в условиях массового террора, «освобождающего» должности), было ощущение подъема, строительства нового общества и т.п. Здесь же
максимум, что можно обещать, — это возрождение России на базе воспроизводства традиционных ценностей с противостоянием здоровой православной державы Европе, потерявшей свои христианские основания. На образ будущего это явно не тянет. Кстати, оппозиция пока тоже не в состоянии его предложить.
— А причина этого не в самом ли запросе общества? Ведь элитные группы не просто вбрасывают что-то в общество, они до этого еще что-то в этом обществе собирают, «подслушивают», потом творчески перерабатывают под свои интересы, а потом уже вбрасывают. Нет ли здесь ощущения утомленности самого общества, которая не дает возможности любым — прогрессивным ли, реакционным ли — элитным группам «вытащить» из него этот образ будущего?
— Это именно так, и в этом, мне кажется, самая тяжелая проблема и, если хочешь, причина тоталитарного рецидива. Потому что у общества нет сил сопротивляться. Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, — это процессы саморазрушения общества и человека. Связано это с инерцией приспособления к репрессивному государству, с адаптивностью через понижение.
При таком устройстве власть монополизирует право выступать от имени социального или национального коллективного целого. Претендуя на то, чтобы представлять общие ценности, она тем самым отказывает людям в признании их самодостаточности, их достоинства. А политически это выражается в устранении многопартийности и структур гражданского общества, в их подавлении. Это не отдельные вещи, а взаимосвязанные. Это, собственно, и есть социологическое выражение насилия, потому что насилие строится на том, что насильник, использующий средства принуждения, отказывает другому в признании его самодостаточности, естественности его прав, интересов, желаний, возможностей и всего прочего, навязывая свое понимание того, чем является он сам и окружающий его мир. Отсюда возникает идея бескачественности большинства, которое для патерналистского государства всего лишь объект управления либо источник ресурсов для себя. Это большинство лишено каких-то своих собственных автономных, неотчуждаемых качеств и достоинств.
Если интересы государства превыше всего, то нет никакого логического или морального, правового барьера между уничтожением продуктов и уничтожением отдельных групп населения, объявленных врагами народа.
Если власти решают — что есть мораль, что есть искусство, что достойно, а что нет, что есть история, как заниматься сексом и как воспитывать детей, — то это признаки установления тоталитарного контроля. Конечно, мы пока имеем дело лишь с попытками его навязать. Но мне важно сейчас подчеркнуть именно интенцию на это.
Неспособность представлять самих себя и готовность принимать власть как держательницу коллективного целого — равнозначно оправданию институтов насилия, принятие их как должного. Идея приоритета коллективных значений над ценностью частной жизни — это дисквалификация индивидуального субъективного начала, прав человека и гражданина. Когда это принимается или не вызывает сопротивления, то последствия оказываются разрушительными и для отдельного человека, и для общества в целом.
Но это не сегодняшний результат, это инерция непроработанного советского прошлого. Это сохранившаяся привычка к насилию. И мы с этим постоянно сталкиваемся, когда одни и те же люди говорят: «Да, действительно, Сталин виновен в уничтожении миллионов людей», и с другой стороны: «Он великий человек, он организатор Победы, и он сделал страну великой». В итоге мы получаем, если хочешь, социальный идиотизм. Это вот та «выученная беспомощность», о которой я уже говорил.
Если была бы продуктивная работа элит, то, конечно, произошла бы какая-то рационализация ситуации, и она была бы не столь драматичной. Но сегодня элит нет, они стерты. Мы имеем дело с тем, что Левада называл «назначенные быть элитой». Потому что власть решает, кто великий ученый, кто великий писатель, великий политик, полезный общественный деятель, что можно делать, а что нельзя.
— Есть ли в современной общественной науке понимание особенностей тоталитарных тенденций на современном этапе?
— Я думаю, что критики тоталитаризма исходили в основном из описаний конкретных режимов, известных истории, в то время как мы сегодня имеем дело с проблемой выхода из тоталитаризма, совершенно не разработанной. Как известно, нацистский и фашистский режимы были разрушены в ходе военного поражения. Советский же режим рухнул изнутри, но частично. И основные институты его — прежде всего организация власти и политическая полиция — сохранились. И еще. Катализатором, ускорителем процесса возвращения к тоталитарным практикам стала, несомненно, реакция власти на массовые протесты 2011—2012 годов, когда режим почувствовал угрозу со стороны формирующегося среднего класса и сумел его расколоть.
— Расколоть, запугать и натравить то, что называют «молчаливым большинством» на протестующее меньшинство.
— Которое, собственно, и являлось средой, в которой были требования институциональных реформ.
— А какую роль во всем этом играет укрепившаяся в очередной раз в нашей истории концепция особого пути России?
— Особый путь — это глубочайший комплекс массового сознания, характерный для общества догоняющей, но не завершенной модернизации. Очень важным фактором массовой фрустрации населения стало формирование у нас потребительского общества. Явление совершенно новое и неосмысленное. Наверх вышло подсознание брежневского времени принудительного распределения, уравниловки, вечного дефицита, бесперспективности. Сегодня — пожалуйста, покупай, если у тебя есть деньги! Реальные доходы населения действительно росли, на чем и держится нынешний режим. Если брать показатели за 25 лет с момента последнего советского года, то доходы населения выросли в 1,6 раза. А если брать с нижней точки — кризиса 1998-го, то почти в 4 раза (восстановление сильно упавшей экономики было достигнуто лишь к 2004 году, отсюда и такие цифры).
Но распределение этого прироста (фактически — углеводородной ренты) крайне неравномерное, и получили выигрыш от этого прежде всего приближенные к власти группы: на их долю приходится примерно 45% всего прироста. Возникло крайнее неравенство, какого никогда не было. А соответственно, и сильнейшее чувство социальной зависти, несправедливости социального порядка.
И в этом смысле никаких иллюзий в отношении власти нет, представление о власти, что она коррумпированная, эгоистичная, наглая, плюющая на обычных людей, — прослеживается во всех наших исследованиях.
— А какое отношение к этому имеет «особый путь»?
— Но власть, как мы говорили, — держатель коллективных ценностей, поэтому с ней не спорят. Возникает психологическая сшибка. Особый путь — это защитный барьер против болезненного сопоставления положения дел в стране и в «нормальных странах». Это комплекс «не хочу даже сравнивать», это закрытие от всего внешнего. Это понятие абсолютно пустое: все попытки как-то определить, что такое «особый путь», — кончаются полным фиаско. Это защитная реакция, если хочешь, это выражение своей несостоятельности.
— В мифологической форме.
— Но миф — тоже реальная вещь, если действует на людей. И выражалось это в очень сильном чувстве утраты статуса великой державы. Потому что единственная возможность неболезненного сопоставления с развитыми странами — это то, что «мы — великая держава». И настроения типа «Верните нам статус великой державы!» начали проявляться еще до прихода к власти Путина. Чувство причастности к великой державе компенсировало все убожество повседневной жизни, согласие на бедность и подчинение, на насилие. Это готовность терпеть ради сохранения великой державы.
— Видимо, отсюда и готовность к ограничению свобод и сопровождающей это некоей репрессивности. Не той, когда миллионами расстреливают, а в более классическом, менее кровожадном понимании этого термина.
— Совершенно верно. Капиллярная репрессивность, которая пронизывает всю плоть, все ткани социальных отношений.
— Откуда такая готовность игнорировать «рацио» и переходить на мифологический уровень оценки жизни, истории, прошлого, настоящего, будущего? Это что? Боязнь столкновения с реальной жизнью?
— Отчасти это страх нового, страх того, что все реформы принесут только ухудшение жизни (а для провинции — это зачастую реальность). А, кроме того, что очень важно, другого способа придать себе значимость, кроме как воспользоваться языком насилия, нет. Мне очень нравится выражение Сенеки: «Наглость — это признак ложно понятого величия». Звучит вполне современно.
— Если не работают институты, которые призваны регулировать и налаживать отношения между людьми, между категориями людей, то что остается?
— Понимаешь, перестроечная идеология была такая: вот мы разрушим монополию КПСС, и сразу возникнет освобожденный человек, который будет добр, умен, свободен, солидарен, и все прочее. А поднялся другой человек: ущемленный, злобный, принявший насилие как единственный код и норму социального поведения, признающий государство как стационарного бандита, устанавливающего свои нормы и свое право на насилие.
— Есть ли какие-то оптимистические элементы в опросах, показывающие неготовность наших людей к тоталитарному будущему?
— Ну, во-первых, все время есть какие-то импульсы противодействия.
Если возьмем протестное движение 3—4-летней давности, то оно было не политическим, а скорее моральным. Оно отстаивало право на честность, справедливость, достоинство. «Не воруйте голоса на выборах!», «Если побеждаете, то делайте это честно!».
Это говорит о том, что общество не окончательно разрушено.
И потом: при нынешнем прессинге на общество постоянно появляются общественные инициативы, различные формы волонтерства. Это тоже говорит о том, что общество не окончательно мертвое. Другое дело, что политически эти контрдвижения почти никак не представлены.
— Есть ли в сегодняшнем российском обществе запрос на демократию?
— Примерно у 10% населения. Это более образованные, более инициативные люди. Плохо то, что в нынешней ситуации это меньшинство оказалось в ситуации полной растерянности и либо отъезжает (имеем явный миграционный отток), либо дезориентировано и пребывает в депрессивном состоянии.
Главная проблема нынешнего усталого общества — это где найти силы для некоторого идеализма, для нового подъема.
Андрей Липский
Источник: novayagazeta.ru