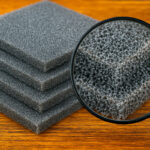Российский деспотизм для Екатерины II был придуман Руссо, Монтескье, Бентамом, т.к. «по-другому управлять азиатами нельзя». А её ближайший соратник Бецкий взялся выводить новую породу россиян в «светских монастырях» – вне дворянского дискурса и рабов-крестьян. Из этой «породы» вышла интеллигенция. Так описывает основы России историк Джеймс Биллингтон.
Американский историк и советолог Джеймс Биллингтон написал книгу «Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры» в 1966 году. Он, по сути, был первым советологом в США, который попытался понять Россию не через набор исторических фактов, а через её культурные, экономические и религиозные основы. Чуть позже по этому же пути пойдёт ещё один известный американский советолог – Ричард Пайпс.
Джеймс Биллингтон в 1970-е вошёл в американский истеблишмент, сейчас он занимает пост Директора библиотеки Конгресса. В одном из своих интервью он говорил:
«России свойственно в конце концов принимать общественную модель, которая раньше была отвергнута. Иногда об этом забывают. Но ведь известно, что древние славяне разбойничали в Восточно-римской империи и несколько раз нападали на Константинополь. Киевская княгиня Ольга в конце концов приняла православие, при этом фактически из рук византийского императора. Пётр Великий воевал со шведами 20 с лишним лет, но министерскую систему в империи организовал по шведскому коллегиальному принципу. После Наполеона Россия на долгие десятилетия стала самым франкофильским государством Европы, а французский превратился в единственный язык элитарного дворянского дискурса. Нечто похожее произошло и в ХХ веке: вы долго противостояли Америке, а потом приняли американские принципы, защищающие правовое государство, закон, конституцию и демократию».

Впрочем, Биллингтон также часто говорил, что российской деспотии свойственно время от времени и откатываться назад в своём подражании Западу. Тем не менее, американский советолог уверен, что наша деспотия – это продукт, импортированный с Запада, просто в азиатских условиях он приобретает такие формы. Мы публикуем отрывок из его книги «Икона и топор», посвящённый становлению российской европеизированной деспотии при Екатерине II.
«Начало российского Просвещения началось с притоком в Москву учёных из Белоруссии и монахов с Украины во времена раскола русской церкви. Кстати, монахи и семинаристы продолжали играть существенную роль в российском Просвещении вплоть до XX столетия: им русская светская мысль отчасти обязана своим религиозным накалом. В то же время ориентированные на Запад новообретённые области империи немало способствовали освоению русскими умозрительной философии и художественных норм классицизма, которые вскоре возобладали в дворянской культуре. Во времена польского владычества Киев превратился в восточный форпост академической учёности и барочной архитектуры, а вернувшись под власть России, он почти столетие оставался главным оплотом образования.
Киево-Могилянская коллегия являлась ближайшим подобием гуманитарного университета западного типа. С 1721 по 1765 годы были основаны 28 семинарий — и все по киевскому образцу; и вероятно, не будет преувеличением сказать, что Киев в XVIII веке обучал Россию не только чтению и письму, но и абстрактно-метафизическому мышлению, которое оказалось столь привлекательным для образованных дворян.
Только к концу царствования младшей дочери Петра Елизаветы это лишённое корней и всё же восторжествовавшее сословие обрело собственный язык, приобщаясь к языку и культуре Франции. Царствованием Елизаветы открывается период творческой продуктивности, который по справедливости может быть назван золотым веком российской аристократии и длится приблизительно от 1755-1756 до 1855-1856 годов.

В 1755-1756 годах в России была впервые исполнена русскими артистами русская опера, создан первый русский постоянный театр, основан первый русский университет. Столетьем позже взошёл на трон Александр II: он освободил крепостных крестьян, открыв путь ускоренному промышленному развитию России, и тем положил конец особому социальному статусу дворянства. В смысле отношений с зарубежными странами эти временные рамки также знаменательны: в 1756 году произошла «дипломатическая революция», сблизившая Россию с дореволюционной Францией; в 1856-м закончилась Крымская война, которая ознаменовала первое сокрушительное поражение старого российского правопорядка, обеспечившее приток и восприятие либеральных идей победителей — англичан.
В общих чертах можно говорить о просветительском XVIII и романтическом XIX веках, о культе Вольтера и Дидро, сменившемся поклонением Шеллингу и Гегелю; о том, как вслед за франкофильскими реформами Екатерины и Александра I их преемники Павел и Николай насаждали прусскую дисциплину; об универсальной галломании, несколько ослабевшей сперва вследствие революционного террора, а затем — ввиду наполеоновского нашествия 1812 года. Так или иначе, на всём протяжении этого столетия противоборствовали французский и германский подходы к политическим, личностным и эстетическим проблемам.
Самонадеянный оптимизм Екатерины II породил и предложил ей дилемму деспота-реформатора. Эта дилемма стала наваждением для её внука Александра I и его племянника Александра II, а внук последнего Николай II ужасался самой мысли о ней. Как сохранять самодержавие и иерархическую социальную систему, в то же время проводя реформы и насаждая образование? Каким образом самодержавный монарх будет внушать надежды на улучшения и не столкнётся при этом с революционным подъёмом несбыточных ожиданий?
Обоим Александрам, как и Екатерине, пришлось умерять либерализм первых лет царствования и прибегать в конечном счёте к репрессивным мерам. И каждому из них наследовал деспот, который стремился покончить со всяческими реформами. Но прусские методы этих преемников — Павла, Николая I и Александра III — не способствовали разрешению насущных государственных проблем и лишь усугубляли потребность в преобразованиях. Более того, сводя на нет усилия умеренных реформаторов, Павел, Николай I и Александр III играли на руку преобразователям-экстремистам и оставляли в наследство преемникам искусственно взвинченные и завышенные общественные ожидания.

(Как европейцы институализировали российский деспотизм)
Вольтер был фигурой скорее символической; зато офранцузившийся немец Фридрих Гримм служил при Екатерине главным придворным поставщиком новостей. Гримм стал в Европе чем-то вроде рекламного агента Екатерины, и лишь отчасти шутил, когда перефразировал «Отче наш»: «Мати наша, иже еси на Руси…», устанавливал символ веры: «Верую во единую Екатерину» и положил песнопение «Те Catherinam laudamus» на музыку Паизиелло.
Вольтер же, избегая сугубо христианской терминологии, именовал Екатерину «священнослужителем нашего храма» и возвещал, что «нет Бога, кроме Аллаха, и Екатерина — пророк Аллаха». Лишь такому более последовательному материалисту, как Гельвеций, удалось воздержаться от религиозных выражений: он посвятил свой последний капитальный труд «О человеке, его умственных способностях и его воспитании» Екатерине, названной «оплотом в борьбе против азиатского деспотизма, по силе разума достойной судить иные нации, как достойна она править своей».
Монтескье служил ей основным источником вдохновения. Она вчитывалась в произведение наставника по три часа на день, именовала «Дух законов» своим молитвенником и копировала соображения Монтескье чуть ли не в половине статей «Наказа».
Монтескье же говорил о том, что Россия из-за своих размеров и печального наследия обречена на деспотическое правление. Изобретенные Монтескье аристократические «посредствующие учреждения» между монархом и подданными служили, по разумению Екатерины, не для того, чтобы дифференцировать исполнительные, законодательные и судебные функции власти, а для консолидации деятельности правительства и создания дополнительных возможностей самодержавного властвования.
В целях рационального упорядочения экономической жизни Екатерина сперва обратилась (по совету Дидро) к французскому физиократу Лемерсье дела Ривьеру; затем послала двух профессоров из Москвы на выучку к Адаму Смиту в Глазго. Её наиболее самобытным начинанием было основание в 1765 году Вольного экономического общества по распространению в России нужных для земледелия и домостроительства знаний — своего рода неофициального консультативного совета. Через два года она предложила вознаграждение в тысячу золотых тому, кто составит наилучшие рекомендации, как организовать российскую сельскохозяйственную экономику «на общее благо». Общество получило 164 конкурсных работы со всех концов Европы — больше всего, разумеется, из Франции; француз и удостоился премии.

Даже когда шла подготовка к четвертованию Пугачёва, Екатерина продолжала переписываться с корсиканским революционером Паоли (а другой беспокойный корсиканец, тогда еще безвестный Наполеон Бонапарт, собирался поступить к ней на службу).
И лишь после Французской революции Екатерина оставила мысль о реформах и занялась окончательным утверждением безоглядного деспотизма. Но всё же она передала свою дилемму в наследство Александру I, дав ему в наставники швейцарского республиканца Лагарпа и замкнув его в избранном аристократическом кругу либеральных англофилов. Александр I, в свою очередь, заразил Александра II всё тем же пристрастием к частичным реформам, сделав наставником будущего «царя-освободителя» в самом нежном возрасте своего былого друга либеральных дней Михаила Сперанского.
От времен Екатерины дворянские мыслители усвоили всего-навсего обыкновение искать все ответы на Западе. Они привыкли воображать радикальные реформы на абстрактно-рационалистической основе, а не добиваться постепенных изменений с учетом конкретных условий и традиций.
Особую популярность при Екатерине приобрело неясное представление, что новообретённые южные провинции могут оказаться девственной и благодатной почвой для возникновения на пустом месте новой цивилизации. Вольтер сообщал Екатерине, что он переберётся в Россию, если столица будет перенесена из Санкт-Петербурга в Киев.
Пределом ранних мечтаний Гердера о славе земной было стать для украинцев «новым Лютером и Солоном» и превратить этот нетронутый и плодородный край в «новую Элладу». Бернарден де Сен-Пьер уповал на то, что равноправную земледельческую общину, некую новую Пенсильванию, можно создать где-нибудь возле Аральского моря. Сама Екатерина мечтала превратить недавно заложенный на Днепре ниже Киева город Екатеринослав в грандиозный центр мировой культуры, а отвоеванный у турков черноморский порт Херсон сделать новым Санкт-Петербургом.

Вместо того чтобы вплотную заняться конкретными проблемами своей страны, Екатерина на старости лет пленилась своим «великим замыслом» взять Константинополь и поделить Балканы с Габсбургской империей.
Завоевав наконец всё северное побережье Черного моря, Екатерина изукрасила его гирляндой новых городов, нередко основанных на месте древнегреческих поселений, — таких, как Азов, Таганрог, Николаев, Одесса и Севастополь. Последний, воздвигнутый в качестве крепости на юго-западной окраине Крымского полуострова, получил греческое наименование — перевод римского имперского титула Augusta. Выстроенный английским морским инженером Сэмюелом Бентамом «властительный град» («sevaste poIis») вдохновил знаменитого брата Сэмюела Иеремию на жутковатый проект паноптикона: тюрьмы, в которой срединный соглядатай может созерцать все камеры.
Ближайшим реформатором при Екатерине стал Бецкой. Он родился в Стокгольме, воспитывался в Копенгагене, провёл молодость в Париже и находился в дружеских и интимных отношениях с множеством второстепенных германских княгинь, в том числе с матерью Екатерины Великой. Когда же Екатерина взошла на трон, Бецкой предложил ей свои услуги, имея превосходную умственную и физиологическую квалификацию придворного.
Как и любимейших фаворитов Екатерины, Орлова и Потемкина, Бецкого привлекала к ней и располагала в пользу её преобразовательных замыслов неприязнь к более родовитой и благополучной аристократии. В то время как старшее поколение знати в большинстве своем сочувствовало стремлению Панина ограничить самодержавную власть в пользу аристократического Совета, Бецкой и его единомышленники стояли за расширение царственных прерогатив. Старшее поколение склонялось к взвешенному рационализму Вольтера и Дидро, между тем как придворные предпочитали химерические идеи Руссо.

Орлов предлагал Руссо переехать в Россию и поселиться в его поместье; один из Потёмкиных стал главным переводчиком Руссо на русский язык; Екатерина то и дело удалялась в свой руссоистский «Эрмитаж»; а «генеральный план воспитания», представленный ей Бецким, был заимствован из «Эмиля» Руссо.
Бецкой пытался вывести в России «новую людскую породу», отвергнувшую искусственность современного общества во имя возвращения к естественному образу жизни. Правительство должно было принять на себя ответственность за новые принципы обучения, призванного развивать не только ум, но и сердце, содействовать как физическому, так и духовному развитию и ставящего во главу угла нравственное воспитание. Незаконнорожденные и сироты – «отверженцы» общества – избирались в качестве краеугольных камней нового храма человечности.
После пристального изучения светской филантропической деятельности в Англии и во Франции Бецкой основал в Москве и Петербурге детские приюты, которым надлежало стать мощными орудиями содействия новому российскому Просвещению. Первые из них были учреждены затем, чтобы «искоренять вековые предрассудки, давать людям новое воспитание и новое порождение». В этих светских монастырях им полагалось пребывать в полнейшей изоляции от внешнего мира с 5-6 лет до 18-20.
Как Монтескье в политике, так Бецкой в области воспитания задал тон многим последующим российским дискуссиям. Наиболее важным связующим звеном между екатерининской Россией и советской революционной державой является создание нового разряда людей умственного труда, не связанных с церковью, знатью и основной азиатской массой населения (крестьян) и по натуре склонных к всеобщим преобразованиям.

Бецкой заявлял, что посредством воспитания будет взращено «третье сословие» российских подданных в дополнение к дворянству и крестьянству. Образованные люди умственного труда и в самом деле явились новым общественным сословием, стоящим вне табели о рангах, введённой Петром. Сплотились они, однако, не как класс просвещённых государственных служащих (на что уповал Бецкой), а как «интеллигенция», чуждая государственной машине. Такой и оказалась «новая порода людей», возникшая в царствование Екатерины: неофициальное «третье сословие» между правящим дворянством и рабами-крестьянами».
Источник: ttolk.ru