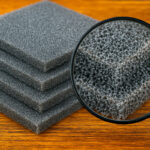О том, что на территории Ставрополя находился лагерь для инакомыслящих, воров и убийц, «Русской планете» рассказали в краеведческом музее имени Прозрителева и Праве. По данным общественников, в середине 30-х годов прошлого века в ведении Отдела трудовых поселений ГУЛАГа НКВД СССР находилось 997 тысяч 329 трудпоселенцев, которые проживали в 1741 трудпоселке.
Такие поселки располагались практически во всех регионах страны, на Ставрополье в лагерях содержалось 45 тысяч 531 человек в 10 поселках. Три из поселений содержались возле Ставрополя. По данным «Русской планеты», кроме лагерей существовало множество колоний, лагерных отделений и лагерных пунктов, находившихся в ведении республиканских МВД и Управлений внутренних дел областей и краев РСФСР.
О местах заключения советского периода в кавказском регионе до середины 1934 года, когда был организован общесоюзный Наркомат внутренних дел, практически ничего не известно.
«Бабка была дерзкая. Такими бывают бывшие заключенные»
Я пыталась найти крупицы информации, ездила по пригородам Ставрополя, расспрашивала дачников. И удача улыбнулась, правда, оказалась скорее горькой усмешкой. Впрочем, тема не предполагала позитивных находок. На хуторе Грушевом, в пяти километрах от Ставрополя, познакомилась с Андреем Ткаченко. Высокий, худой, немного сутулый. На вид лет сорок, длинные волосы и черная кепка. Оказалось, что 14 лет назад он купил около хутора дом, который был частью существовавшего когда-то Грушевского сельскохозяйственного лагеря.
– Сами бараки стоят почти на берегу Кравцова озера, — говорит мужчина. — Здания из желтого песчаника, никто в них не живет. Их до сих пор так и называют все бараками. Бомжи в них ночуют. Но в них не заключенные жили, а те, кто их охранял. А я живу в доме, где в те времена располагался мини-госпиталь для заключенных.
– Как вы об этом узнали?
– Дом турлучный (обмазанный глиной поверх переплетенного хвороста, — Примеч. РП). Мне бабка, которая этот дом продавала, рассказала, что это была лечебница лагерная. И бабка была странная. Дала объявление, к ней приходили покупатели, а она никому в итоге не продавала. А я пришел с фингалом, помню. Вид у меня в тот день был не очень презентабельный. Она на меня глянула, и говорит — ты теперь жить здесь будешь.
– Что она рассказывала про лагерь?
– Я так понял, она в этих местах оставалась после закрытия лагеря, ссыльная, которую в свое время освободили, а она никуда не уехала, никого у нее не было в этом мире, и осталась жить. Лагерь в 1954 году, как она утверждала, закрылся, и перебралась в дом врача, и в нем прожила почти полвека. Скрытная была и такая…
Андрей хитро улыбается, задорно машет руками, пытаясь объяснить.
– … дерзкая что ли. Такими бывают бывшие заключенные.
– Она что-то рассказывала?
– Мало. Вообще бабка вела замкнутый образ жизни, я так понял, душу открывать никому не собиралась. Из ее слов я понял, что во время войны место стало концентрационным лагерем, и полгода во время немецкой оккупации тут заправляли фашисты. А куда делись те, кто до оккупации был — неизвестно, может, свои же расстреляли. А может, и немцы расстреляли и лежат они с тех пор здесь. На пригорке.
«Нашел 18 братских могил»
– Андрей, вы абстрактно про пригорок говорите или про какой-то конкретный?
– Да уж куда конкретней. Бабка мне показала могилы, потом я искал. Нашел 18 братских могил. Не называют такие могилы братскими, просто массовые захоронения. Общие могилы. По ним видно, что в каждой по 20–30 человек лежат, судя по размерам.
– Можете показать?
– Гора здесь ступенчатая, и на первой из ступенек от дома врача они все и лежат. Мертвые в земле. Как по линейке. Только без крестов, без табличек. Да и что бы там написали? Что, мол, расстреляли врагов народа? А сейчас трава пошла и не найти их, если не знаешь. Эта бабуля говорила, что некоторых прям в озере Кравцово топили, особо буйных. А после войны тут была пчелобаза, лагерные занимались. Овощи, фрукты выращивали. Потом использовали людей для строительства зданий в Ставрополе.
Она на меня жути нагнала, конечно. Такие кошмары рассказывала, что я первое время тут спать боялся. Тут еще у нее везде были развешены травки разные, и в доме в том числе. Ну натуральная ведьма. Какая-то мистика была. Сплю, свет включается, какие-то тени проскальзывают. Но потом прошло, прижился я здесь, место мне теперь кажется спокойным, без чернухи, без злобы. Сейчас хутор Грушевый известен многим, здесь расположено множество дач и коттеджей, а некоторые улицы даже претендуют на то чтобы называться местной Рублевкой, такие особняки стоят. Но историю мест никто не знает.
– Как думаете, почему доктор жил в отдалении от бараков? Километра два расстояние.
– По-моему, как раз все логично. Там сидели, жили, а сюда их привозили подлечивать. Хотя судя по проектировке дома, тут их вряд ли лечили. Видимо, полежат тут, а потом — в могилу на бугор.
– А что не так с проектировкой?
– Комната врача настолько крошечная, что приличный доктор бы сюда не поехал, там только узкая кровать поместится. Видимо, одно название «врач» было.
«Сколько людей тонет, никого не находят»
Предлагаю пойти посмотреть здание. Идем по густой траве, на деревьях висят ржавые цепи и металлические инсталляции. Вдали отражает солнце государственный природный заказник краевого значения Кравцово озеро. Оно относится к числу реликтовых и торфяных озер-болот. В научной литературе Кравцово описывается как «озеро-болото» — из-за уникального свойства периодически мелеть и заболачиваться, а затем вновь разливаться. Главная особенность водоема — донные торфяные отложения.
– Вон тот остров пригнало зимой к этом берегу, — показывает на небольшую зеленую кляксу посреди водной глади Андрей. — А потом опять отогнало обратно. Так сколько людей тут тонет, никого не находят. И глубина болота не известна доподлинно. Разные теории есть. Мне иногда кажется, что этот остров — как пробка в ванной. В советской литературе читал, что 2–3 метра воды, и под ним 15–16 метров торфа и ила. А я думаю, что там больше этого ила.
Идем мимо неглубокого колодца, спрятанного в траве. Вода капает в эмалированную кастрюлю. Спрятанный во фруктовые деревья появляется небольшой турлучный дом, который уже позже обложили кирпичом. Причем, турлучные стены идеально ровные, а кирпичная кладка деформировалась и, кажется, что дом распух. Внутри две одинаковые проходные комнаты где-то 15 квадратных метров каждая.
– Здесь стояли шконки в ряды.
– Простите, что стояло?
– Нары. А вот, смотрите, раздаточное окно, через которое передавалась еда больным заключенным.
«Ощущение возникает, что живу в гулаговском музее»
Дальше — крошечная кухня, в которой не смогут развернуться два человека. Старинная печь на дровах, раковина. Следом идет комната врача, от вида которой становится сразу тоскливо. Крохотное темное помещение с одним окном, где можно лишь спать, но жить нельзя. В каморке несколько дверей.
– У врача был доступ во все комнаты. Фундаменту сто лет, но я здесь живу уже 14 лет и ничего не трогал. Все сохранил. Ощущение иногда возникает, что живу в гулаговском музее. Или что на машине времени попал в те годы. И полы, и стены, и двери остались с тех пор. Зимой не холодно, если протопишь хорошо, а летом прохладно.
– Бедный врач, — вздыхаю я.
– Бабы были вместо врача. Да и вообще все это не очень весело. Бабка говорила, что заключенные уже в таком состоянии попадали в больничку, что сами ходить не могли, физически опасны они не были из-за своего измождения. Может, их здесь осознанно умерщвляли.
Идем на пригорок к могилам. Весенняя яркая зелень создает живописные картины.
– Моя сестра один раз ночевать тут осталась, и какие-то кошмары ей привиделись, больше не приезжает.
Останавливаемся на первом пригорке ступенчатой горы, Андрей показывает мне на невысокие кусты.
– Например, вот тут могила. Вы прошли и даже не поняли. Ранней весной четко видно, все по одной линейке.
Вижу холмик внушительных размеров, если сравнивать с привычными могилами. Через пять метров — еще один холмик, он больше, шире, выше.
– Сейчас покажу вам хорошие бугры, а то эти мелкие, — ведет меня в сторону леса Андрей. От этих слов становится неуютно и зябко. Проходим меланхоличную корову с бубенчиком. Она жует сочную траву, листья чабера, которого здесь много, но цветы еще не распустились. Переступаю через поваленные деревья, нагибаюсь под ветками низких фруктовых деревьев. Пахнет очень по-деревенски: вокруг цветут яблони и груши. «Бугры» становятся все шире, я не могу их переступить или перепрыгнуть, а наступать страшно. Идти по земле жутко, я перестаю понимать границы захоронений.
Осенью вместе посчитаем
– Друг мне предлагал раскопать, посмотреть. А я боюсь — вдруг эпидемия была какая. Земля поглотила своих героев. С каждым годом могилы распознать все сложнее. Я насчитал 18, а сколько их на самом деле — один Бог знает. Вы осенью приезжайте, перед заморозками, вместе еще раз посчитаем.
Объясняю, что не в количестве ведь дело. В земле лежат люди, у которых есть родственники, потомки, быть может, кто-то продолжает искать.
– Лес поглощает все, но если философски подумать, то людей этих и не было, их система ж людьми и не считала, — останавливается и осматривает красивый пейзаж Андрей. — Хожу каждый день по костям, и думаю: а не самое ведь плохое место, чтобы в земле лежать. Я не против, чтобы меня где-нибудь здесь похоронили, когда мой жизненный путь завершится. Пусть прикопают.
– Вы искали какие-то документы об этом месте?
– Конечно, искал, но где ж такое найдешь? Только одно письмо мне попалось. Я его специально из домика с собой взял, уже не помню, кто мне его передал, это не оригинал, ксерокс.
Андрей разворачивает листок бумаги, начинает читать:
«Мой отец, Мерзляков Трофим Николаевич, был расстрелян 18 января 1943 года в концлагере на Грушевом. До занятия города гитлеровцами он работал помощником прокурора края. Он не успел эвакуироваться с нами, двумя его сыновьями и мамой.
Мне тогда было 4 года, а брату 11. Жили мы на улице Ясеновской, — это все со слов матери. Но хорошо помню, как после прихода немцев неожиданно появился отец, а вскоре нагрянули гестаповцы, началась стрельба. Отец был с тремя товарищами, которых немцы убили при перестрелке. Раненого отца немцы схватили и увели. В тот же день мы ушли из квартиры и все время скрывались у друзей мамы. Но немцы нас и не искали. Более того, мама получала в комендатуре пропуска для посещения отца в концлагере у хутора Грушевого. Последний раз она была 17 января, и отец сказал ей, что бежать из-за раненой ноги он не сможет, и, наверное, их завтра расстреляют. Он передал маме свой пиджак, который долго носил мой брат, а затем, перелицованный, — уже я. Когда немцы ушли, всех расстрелянных хоронили на Комсомольской горке. Там была большая братская могила, куда я потом часто приходил и долго плакал, мне так хотелось, чтобы у меня был живой отец…»
Мужчина старательно складывает листок обратно, кладет в карман.
– Видите, во время оккупации здесь и концлагерь был, полгода. Но немцы вроде здесь никого не закапывали. Видать, это уже после них все.
Андрей торопится в город на работу, поэтому мы быстрым шагом идем по горе к остановке. Я напоследок оглядываю идиллическую картину: озеро, зеленые холмы, цветущие деревья. Все яркое, словно каждая травинка радуется очередной весне. И хранит тайны ступенчатой горы без крестов.
Перед боем никогда не кормили
Буквально на следующий день мне позвонила мама, и, узнав, что я интересуюсь поселением на хуторе Грушевым, рассказала, что сорок лет назад она знала ветерана войны, который после Победы работал охранником в том поселении. Оказалось, что Федор Иванович Какурин 1922 года рождения еще жив, но в связи с возрастом к общению со СМИ не готов. Зато свои первые годы жизни вспомнила его дочь, Лариса Федоровна.
– До войны папа стал шофером, права получил, — рассказывает по телефону женщина. — А это очень престижная по тем временам профессия. Да только где-то там, наверху, уже понимали, что в армии после всех репрессий случился дефицит командиров. И стала Красная Армия пополняться. Да кто там спрашивал нашего согласия? Хотим, не хотим… Вызвали в военкомат и приказали собираться на обучение в военное училище. Он попал на фронт, на оборону Москвы. Рассказывал, что почему-то перед боем их никогда не кормили.
Видимо, чтобы более злыми были по отношению к врагу. Папа награжден орденом Красной Звезды. Потом ранение, он потерял руку. Маму мою он встретил уже после войны, в Невинномысске. Взяли его в органы МВД, и стал он охранять лагеря. Сначала где-то на Севере сторожил уголовников, потом переехал в Ставрополь, где и стал работать в Грушевской колонии. Поначалу охранял немецких военнопленных. Они тогда помогали восстанавливать город. А потом уже в лагере все наши были, советские. Рассказывал папа, как однажды сбежали несколько заключенных, взяли его в плен, стали угрожать, что убьют. А он у меня отважный, говорит им, мол, на войне не убили, убивайте сейчас.
Ну, те и струсили. И я помню, как наша семья жила в одном из бараков на берегу озера. Папа ездил в телеге, а возницей у него был один из лагерных. Хороший такой дядька, веселый. Недавно ездила туда, посмотреть, с трудом места узнала, я совсем тогда маленькая была. Но отец всегда говорил, что в этом лагере страшных преступников не было, кто-то украл, кто-то против партии пошел. Но убийц точно не было. А переехали в Ставрополь мы в начале 54-го года. Видимо, тогда лагеря и не стало.
Будут ли когда-нибудь эксгумированы те, кто лежит в черноземе хутора Грушевого, сказать с уверенностью не берется никто. Во всяком случае, до тех пор, пока не будут найдены документы, которые касаются сельско-хозяйственного трудового лагеря.
Лариса Бахмацкая
Источник: kavpolit.com