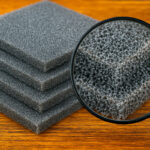«Слушай, друг, у тебя глаза хорошие, пойдем, ты тоже свидетелем будешь». Глаза у Кикабидзе озорные, с хитринкой. Я смотрел в них и полностью там пропал, позабыв себя. Даже не спросил про Телави: «Тель-Авив, йес!» Он такая часть меня, да всех нас, всей бывшей большой страны… Неразделимая.
Меня попросили: только о политике с ним не говори. Зачем о политике, когда есть «Мимино», а там все. Ведь «Мимино» — это Вахтанг Кикабидзе и есть, от и до, полностью.
«Ну что мне сделать, чтобы вы меня простили? Хотите, с самолета спрыгну?» — «Нет, не хочу». — «А я хочу»
— А вы знаете, что картина по-другому заканчивается? Там было порезано. Вообще, я считаю, что это не комедия, это такой философский фильм был. А финал убрали. И еще там эпизодов пять или шесть вырезали по картине.
— А что там было в конце?
— «Хочешь, я выйду из самолета», — говорит Мимино. А они уже летят над домом, уже Кавказский хребет. Она говорит: «Нет, не хочу». — «А я хочу». И Мимино открывал дверь самолета, выходил и оказывался дома. Там в фильме был еще такой персонаж — Петр.
— Которого тоже вырезали?
— Его вообще нету, с самого начала убрали. Петр подковывал лошадей в деревне. И он спросил Мимино: «Ты правда будешь за границу летать?» — «Да, а что?» — «Я тебя прошу, привези мне подковы. Только чтобы было написано: «Made in USA». Тогда лошадь будет бегать лучше». И когда Мимино покупает для своего армянского друга крокодила, то и для Петра покупает подковы. Ну и вот Мимино выходит из самолета, а вокруг зеленый луг там, заснеженные горы… И я на заднице съезжаю с какой-то горы. (Мы очень серьезно играли этот финал.) «Привет, Валико, — говорит Петр. — Ты откуда?» — «А, нелетная погода была, я пешком пришел. Подковы тебе привез». И когда он начинает уходить, этот Петр вдруг заразительно хохочет. «Чего ты смеешься?» — «У тебя на заднице штаны лопнули». «Дурак ты, Петр, — говорю я. — Вокруг такая красота, справа Эльбрус, слева Казбек, а ты мне на жопу смотришь. Оглянись вокруг». Вот так заканчивался фильм. Тогда ножницы работали сильно.
— Ну а я хотел бы прыгнуть с этого самолета и вернуться в ту большую страну под названием СССР, где мы с вами родились. Давайте прыгнем вместе.
— Нет, я бы не хотел. Но куда-то хочу выпрыгнуть и не знаю куда. Очень тяжело.
— И никакой ностальгии не испытываете по тому времени, по себе в том времени?
— Единственное, что меня беспокоит, — то, что духовность исчезла. В то время люди все-таки друг друга любили и старались не показывать, кто какой нации. А так — нет.
— А те концерты, «Песни года», в которых вы выступали, «Мои года — мое богатство»?.. И рядом Кобзон, Ротару, Пугачева… Вот эти все вещи вас как-то не греют, когда вы о них вспоминаете?
— Ну, греют. Но просто много плохого тоже вспоминаю. Я очень много выступаю, очень много работаю и всех вижу. Мы встречаемся на концертах… Тогда профессия актера была опустячена. Название «легкий жанр» — это же придумано. Это тяжелейший труд! А там тогда так было, в Министерстве культуры СССР: ну, не будет петь Вова, будет Вася петь; Вася не будет петь — Вахтанг будет; Вахтанг не будет…
— И любого можно заменить?
— Да, сейчас еще хуже, потому что сейчас однодневки пошли. Это уже другой разговор. Недавно я на Украине работал. Когда мне хочется по-русски петь, я еду на Украину. Работали в Киеве, в Харькове, во Львове, в Одессе… Суперконцерты были. Конечно, я очень ностальгирую по российскому слушателю. Россияне умеют слушать. Всех, и артистов, и политиков.
— Да, к сожалению, и политиков тоже.
— Такая жизнь пошла, ничего не сделаешь. Много чего мне не нравится. Эти переходные моменты без головы делаются, через одно место.
— Ну, да, через то самое место, куда смотрел Петр.
«Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся»
— В России вас очень многие любят. Но есть те, кто на вас обиделся. Вы этим обиженным людям что-то хотите сказать, объяснить?
— Пусть они знают, что они не правы. На что мне обижаться? Они обиделись из-за того, что когда-то вошли танки. Я отказался от ордена и не поехал на свой юбилейный концерт. На это не они должны обижаться, я должен обижаться. Но человек так устроен, понимаете, каждый по-своему мыслит. Огромное количества народа после 2008 года все равно приезжает на мои концерты, Россия — большая страна. А обижены… Ну, холодную воду выпьют, и пройдет. Несколько месяцев тому назад мне какой-то дурак из Донецка позвонил, а я без очков телефона не вижу, ну и ответил на мобильный. «Вахтанг?» — он говорит. «Да». — «Мы вас расстреляем». «Почему?» — спрашиваю. «Потому что он святой человек». (Путин имеется в виду.) Я говорю: «Для кого святой, а для кого…» Я его послал, конечно, подальше, после этого он не звонил. На них нельзя обращать внимание. Я же никому не навязываюсь. А народ… Просто наше поколение так выросло, что нас никогда ни о чем не спрашивали. Довоенное поколение. Народ привык молчать, лишь бы работа была и было тихо.
Мне 76 лет уже, никуда не денешься. Человек должен понимать, что не должно быть грязных хвостов. Надо жить, а жить правильно очень трудно. Мама моя верующая была очень, и она всегда говорила: «Живи в ущерб себе, но для других людей». Она была права.
— Но есть люди в Грузии, которые не стали принимать такое же решение, как вы, — Нани Брегвадзе, например. Вы же с ней не порвали из-за этого отношения?
— Нет, конечно. Когда я эту фразу официально сказал (о том, что не будет больше выступать в России. — А.М.), я не думал, что это такой ажиотаж вызовет.
— Но вы ударили по больному для многих россиян.
— Да, и потом началось: одни ругались, другие… Интернет вообще взорвался. Было очень обидно, что мои друзья московские меня не поняли, очень известные люди. Один сказал про меня: «Если он такой патриот своей страны, пусть берет автомат и воюет с нами». Но потом некоторые начали извиняться.
— Ну а вы по жизни разве не обижали кого-то? Словом, поступком…
— Конечно, конечно. У меня одна хорошая черта: я умею извиняться. Иногда, бывает, ошибешься и гадость какую-то сделаешь, потом тебя это мучает. Человек должен признавать свои ошибки.
— А если вы считаете, что правы, все равно будете извиняться, чтобы наладить отношения?
— Вот этого у меня нет, к сожалению.
«Ларису Ивановну хочу!»
— Эта фраза стала знаменитой в Советском Союзе. Ведь вы согласитесь, что в то время, в 1977 году, это звучало очень эротично.
— Это буквальный перевод с грузинского. Ларису Ивановну минде. Минде — это хочу. У нас это значит: попросите ее. Эротично, да. Вообще там очень много чего придумано. Данелия — необычный человек. Всех сажал рядом — плотников, осветителей, и начинали лялякать. А он так слушает и подбирает фразы. Весело снимали очень. Интересно было то, что до конца фильма мы не понимали, что делаем, я, например.
— Но Данелия-то все знал?
— Данелия-то знал. Он немногословный человек вообще. Когда мы первый материал посмотрели в Москве в просмотровом зале, я увидел, что вся комиссия со стульев падает. Такая литература идиотская, что невозможно было к этому серьезно относиться. Например, Фрунзику я сказал (он по-русски очень плохо говорил): «Ты старайся интеллигентно выражаться». И он сразу засек, он талантливый был: «Вы почему кефир не кушаете? Не любите?» Да, смешно снимали, весело.
— А если от Ларисы Ивановны все-таки оттолкнуться. К женщинам вообще как вы относитесь? Понимаю, что если бы в Америке спросил об этом, меня бы уже на электрический стул посадили, фигурально выражаясь. Но мы же не в Америке. Вы консерватор в отношениях мужчины и женщины?
— Ну, вон женщина обедает, моя супруга. (Показывает на соседний столик, где скромно сидит Ирина, жена Вахтанга Константиновича.) Смотря что мы называем консерватизмом. Я, например, не люблю прыгающих мужиков, которые то в одной семье живут, то в другой. Это очень модно, в шоу-бизнесе особенно — друзья друг у друга жен отбирают, бросают… Не люблю на тусовки ходить, я не тусовщик. Все-таки кавказское здесь у меня присутствует, что мужик должен быть в доме главным.
— По-русски это называется домостроем. В Грузии же не так.
— Нет, у нас, например, в доме настоящая демократия: если кто-то хочет меня увидеть, должен ко мне прийти, познакомиться с моими домочадцами — детьми, внуками, правнуками.
— Это как Фрунзик в «Мимино» говорил: «У меня дочка, Алла. Если кто-нибудь позвонит, скажет: Алла, пойдем в ресторан, туда-сюда потанцуем, я очень плохо буду думать о нем, а если: дядя Рубен, можно с Аллой пойду культурный мероприятий, я скажу: иди, дорогой».
— Мужчина должен уважать женщину обязательно, внимательным должен быть. Я, когда был маленький, очень любил читать. Думал, что рыцарь — это двухметровый гигант в железной каске. Оказывается, рыцарем может быть и масюсенький такой, физически несильный человек, который правильно ходит, думает. А если тебя уважают, то и ты их уважаешь.
— Да, «…если мне будет приятно, я тебя так довезу, что и тебе будет приятно». Я так понимаю, что с Ириной вы уже вместе 50 лет… Это же невероятно! (Супруга Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе, в прошлом прима-балерина Тбилисского академического оперного театра. — А.М.)
— Невероятно, да. У нас уже правнучка, Александра.
— А как вы познакомились, Вахтанг Константинович?
— Один человек виноват в этом, Джон Кеннеди. Мы были в Венгрии на гастролях, сборная группа, и жили на 14-м этаже в гостинице. Вдруг страшные крики на улице, скрип тормозов, люди из машин куда-то бегут… Мы выглянули из окон, думали, переворот начался. Оказывается, Кеннеди убили, и паника была. Ирина очень испугалась. Я ее сразу схватил и не отпустил. Вот так и было.
«Она же стюардессой работает, артистов видит, академиков видит. Иштояна видит, вот так рукой может потрогать. Слушай, кто ты для нее?»
Справка: Левон Иштоян — лучший игрок ереванского «Арарата» 70-х, чемпион СССР и обладатель кубка 1973 года.
— Помню, как в конце 80-х вы сидели на скамейке запасных тбилисского «Динамо» рядом с тренером Нодаром Ахалкаци.
— Я морально старался им помочь. Ахалкаци мой друг был. Я вообще футбол люблю очень.
— Вы тогда депутатом были?
— Нет, ни партийным не был, ни комсомольцем не был, из пионеров тоже выгнали меня в свое время. Мы часто ездили со спортсменами нашими. Ну, когда известные лица, им приятно. А когда им приятно — нам тоже приятно. Очень интересная история у меня про Нодара Ахалкаци. Он как-то в Москве мне позвонил, я в гостинице жил. Зима была. И мы загуляли. Он был очень умный человек, образованный, эрудит. Но такой застольный был. В общем, загуляли, и едем вместе домой уже в гостиницу. А зимой же все дома друг на друга похожи, много снега. «Ой, слушай, — он говорит, — в этом доме мой друг работает. Давай сейчас зайдем к нему, он обрадуется». Вышли, огромное здание, как будто Пентагон. Нодар позвонил в дверь, человек в белом халате открыл. «Ой, Нодар!» — обнялись… Меня узнал: «Мои года, мое богатство». Единственное, мне не понравилось, — у него металлические зубы были. Открыл кабинет — «главврач» написано. Я понял, что я в клинике.
— Психиатрической?
— Нет, хуже. Главврач завел нас, посадил. Сейчас, говорит, я приду. Побежал, принес галлон самогона и какую-то закуску — хлеб, колбаса… «А что это за клиника?» — спрашиваю. «Какая это клиника? Это морг». Я говорю: «Давай тогда твоих гостей приведи, посадим за стол и устроим…»
«Когда я проезжаю мимо метро имени Багратиони, у меня текут слезы. Это слезы гордости…»
— Вы были когда-нибудь в Москве у метро «Багратионовская»?
— Нет.
— А когда вы вспоминаете о Багратионе, у вас слезы гордости…
— У меня мама Багратиони была. Я к этому привык и поэтому не плачу. Всех наших предков выселяли, арестовывали, с 37-го года как начали… Отнимали имущество. Ну, великих людей надо помнить, конечно. Всех.
— Даже того, который является вашим соотечественником? Я Сталина имею в виду.
— Да. Слезы просто так не льются.
«Какая разница, эндокринолог или не эндокринолог. Я тоже, например, не эндокринолог…»
— Было так, чтобы вас принимали за кого-то другого?
— Как-то мы снимали фильм в Эстонии «Совсем пропащий» по «Приключениям Гекльберри Финна», Данелия снимал. Замечательный фильм. У меня были выкрашенные волосы длинные и, как у Сальвадора Дали, торчащие усы. Никто не узнавал. Мы с Леоновым жуликов играли. А у меня в июле день рождения. Съемки у нас были где-то за 150 километров, и мы спешили приехать, чтобы водку купить в магазине. Приехали в город, а там напротив такой магазинчик. Но уже закрывается. Я говорю Леонову: «Жень, пойдем, тебя узнают…» Он обожал, когда его узнавали. Мы вышли. «Закрыто, закрыто», — они говорят. А я: «Смотрите, великий комик» — и показываю на Леонова. Она так посмотрела: «Рута, Рута, смотри, Никулинас». Женя так обиделся, всю неделю со мной не разговаривал.
«Слушай, у тебя денег мало, у меня тоже мало. На, возьми покрышку, продашь…»
— Что такое «денег мало», вы же знаете, наверно, по жизни? И что такое бедность, да?
— А кому знать, если не мне. Конечно, знаю. Дело в другом: вот когда много, нужно оглядываться вокруг. Всю жизнь мне мои друзья помогали. Ставки были маленькие раньше: то один деньги положит в карман, то другой. Они мои ровесники, многих уже нет в живых. Они без работы все. Сейчас моя очередь наступила. Всех своих друзей, кто уходит, я хороню. А это тоже дорогое удовольствие. Без этого не бывает… Я в школе учился 14 лет вместо 11.
— На второй год оставались?
— Первый раз меня оставили в третьем классе. Потом в шестом и в восьмом. Если бы у нас Книга рекордов Гиннесса была, я бы вошел туда. А моя мама в главной кафедральной церкви пела. Я всегда, когда из школы приходил, прибегал к ней. А Иисус Христос там в церкви изображен по-разному: один художник рисует так, другой иначе. Я маленький был совсем и спросил у мамы: «А ты видела когда-нибудь Его?» Я не мог понять, что Его нет. Она говорит: «Да, я каждый день Его вижу». «А как это?» — спрашиваю. «Так это ты, — ответила мама, — в тебе есть Бог, в тебе. Какой ты вырастешь человек, такой у тебя будет Бог». Правду сказала.
— А вообще к деньгам как вы относитесь? Что это для вас?
— Ничего.
— Некоторые говорят, что деньги дают свободу.
— У нас в доме немного другая система жизни, наверное. Иногда я даже из-за этого злюсь. Мы на себя почти ничего не тратим. Очень много вокруг близких людей, которые на меня смотрят. И я считаю, что, если у меня есть возможность, я должен им помогать. А если нет, значит, нет. У меня очень тяжелое детство было, мы жили впроголодь. У нас кухня была 14 квадратных метров в общаге, спали там на цементном полу. Потом мы ее поменяли на бывший коридор с заколоченными дверьми, но пол уже деревянный. Это просто праздник был! И одна дверь была. Мы ее называли «дверь-окно». Две кровати туда не помещались, одна стояла мамина, а у меня раскладушка. Потом я ее складывал, чтобы можно было проходить. Поэтому я все это знаю. А кто этого не видел, ему всегда чего-то не хватает.
— Но бывает же наоборот: люди жили в бедности, а потом дорвались до каких-то богатств и, что называется, отрываются: вот я жил в нищете, но теперь уж…
— Да, и так бывает. Есть такой замечательный американский фильм, там две звезды голливудские играют, в больнице лежат вместе, Николсон один из них. Им ставят смертельный диагноз, и вот они отрываются. Это я понимаю. А то, что наши отрываются — едят ложкой икру, покупают шампанское за 800 долларов, — это не то, это снобство.
— Жлобство, я бы сказал.
— Да, жлобство. Хорошо, когда деньги есть, потому что, когда ты нормальный мужик, ты много добра можешь сделать. Доставить удовольствие кому-то — это очень важно.
«Твоя машина стоит в соседнем дворе»
— Вы любите машины, вы хороший водитель? У вас есть парк иномарок?
— Нет, нет… У меня одна машина, я очень поздно ее купил. Я первый магнитофон маленький (а уже был артистом довольно известным) купил, мне было 32 года — чтобы с собой в поездке слушать музыку. Другие проблемы были. Дачи никогда не было. Сейчас у нас двухкомнатная квартира в Батуми около турецкой границы. В прошлом году я вообще не поехал туда, потому что все мои батумские друзья уже ушли в мир иной, никого там нет. Я люблю общаться с людьми. Жена мне говорит: «У тебя все наоборот, на первом месте Родина, на втором — друзья, на третьем — семья». Я говорю: «Это моей маме скажи покойной, она так воспитала».
— А марка какая у вас этой одной машины?
— «Инфинити». Большой «Инфинити».
«Вылитый Васо!» — «Коте… Моего отца Константином звали». — «Ты не путай, сынок, мы с твоим отцом три года в одном танке». — «Он в пехоте воевал»
— Это же вообще про вас получается. Потому что ваш отец погиб на войне под Керчью… Это Данелия сознательно как бы вашу историю показал?
— Да. С отцом удивительная история произошла. В то время со знанием языков очень мало людей было. Он был с большим минусом глаз. Был вашим коллегой, журналистом. В 42-м году (мама так рассказывала) его не взяли, с таким-то зрением. А он сказал: «Мне стыдно ходить по улицам». И сам ушел на фронт. Через три дня мы пришли на их военную базу, откуда их уже отправляли. Вышел какой-то человек, рано поседевший, в очках, но с лейтенантскими ромбиками. Это был мой отец. У него был кулек из газеты с изюмом, он сел на корточки, я ел изюм, а он меня все время целовал. Вот это запечатлелось у меня как фотография. Я тогда ничего не понимал, мне четыре года было…
…Потом у меня был концерт в Москве, в Ясеневе, в контрразведке. Там совсем другие военные, интеллигентные люди, с языками… Я дал концерт, потом дали ужин, я сижу, и зашел разговор про отца. Мы-то получили извещение, что он пропал без вести. Там 70 процентов грузин погибло в Керчи. И они в контрразведке обещали — поднимем документы. Я такой радостный приехал домой, жене сказал. Месяц не звонили, я уже забыл про это. Вдруг позвонили, сказали: «Нашли 10 Кикабидзе». А фамилия у нас такая, не очень распространенная. Но ни один не совпал.
Отец хорошо пел, кстати. Мама тоже. Она вообще мне говорила: «Как тебе не стыдно выходить на эстраду с таким хриплым голосом?! На тебя же билеты покупают». А у меня мама сопрано. Потом, уже в старости, она сказала: «Наверное, что-то в тебе есть, раз тебя так любят. Давай мы с тобой запишем что-нибудь дуэтом». А когда мама жива, ты думаешь, что она вечно будет жить. Я говорю: завтра… послезавтра… И так она ушла, а у меня до сих пор это осталось в голове, что она просила, а я… Она не очень была разговорчивая. И я, в общем-то, не выполнил…
— Знаете, в вашей манере исполнения те традиции, которые начинались от Утесова, Бернеса… Когда человек душой поет, и голос уже не главное.
— Был новогодний вечер в ЦДРИ, меня тоже пригласили, там много актеров было. Вдруг зашел Утесов, он уже плохо ходил. За ним целая ватага людей идет, а я всю жизнь думал: он уже уходит, а я его не трогал никогда. И вдруг Утесов подошел прямо ко мне, ни здравствуй, ни до свидания. «Вахтанг, — сказал, — ты больше не Кикабидзе. Ты — Вахтанг Бернес». Это был самый лучший комплимент для меня.
— Вы вспомнили, как в Ясеневе выступали, а я вспомнил про другой ваш фильм «ТАСС уполномочен заявить», где вы играли Джона Глэба, агента ЦРУ. И получили премию КГБ за это. Вам сейчас не стыдно?
— Мне раньше стало стыдно. Когда я напился в этот день в гостинице «Россия».
— Вы напились от радости или наоборот?
— Не знаю от чего, из-за того, что нас наградили. Я эту медаль повесил вот здесь, на брюках, на ширинке. Жена так нервничала, поймала меня в номере: «Если тебя сейчас засекут…»
Помню, как-то мы с Фрунзиком Мкртчяном были на приеме в Кремле. Вышли на улицу: темно и снег валит. А мы знаем, что надо направо идти, там машины. Вдруг: «Стоять!» — кто-то из темноты. Мы встали, и выплывает из темноты капитан: «У вас пропуск есть?» И Фрунзик говорит: «Товарищ капитан, какой уважающий себя шпион без пропуска будет по территории Кремля ходить?» Я как сегодня помню. Потом до капитана дошло, он начал смеяться: «Извините», — говорит.
— Простите, Вахтанг Константинович, у вас помимо сына есть еще дочь приемная…
— Да, я ее воспитал. Она самый дорогой человек для меня.
— Сейчас с усыновлением у нас вы знаете, что творится…
— Я в Киеве был на концерте Элтона Джона, специально приехал послушать. Если вы помните, он хотел из Киева мальчика забрать. У ребенка был рак. Ему не дали по украинским законам: мол, гомик там… Идет концерт, Элтон Джон говорит: «Я песню написал…» Замечательная песня… Он так рыдал. И все плакали, весь зал, 3500 человек. «Я же мог бы ему продлить жизнь, лекарства найти какие-то…» — он сказал. Все неправильно делают у нас.
Кончилось кино. Но!
Мы еще встретимся. Я так думаю!
Александр Мельман
Источник: mk.ru